
В контексте задач цифровизации, ставшей глобальным вызовом современности, из-за которого практически меняются все сферы деятельности человека, приходится порой задуматься о том, что на самом деле значат такие привычно употребляемые слова, как «язык» и «речь», — они недаром поставлены в кавычки (Нечаев, 2019). Действительно, эти термины связывают с достаточно широким спектром самых различных явлений: тот же язык жестов, язык животных, язык рекламы, языки различных форм искусства и т.п.
Насколько оправдано такое употребление этого, казалось бы, точного по содержанию термина лингвистики, как язык? Возможно, тем самым интуитивно «схватывается» его недостаточность? Столь же многообразны наши представления о речи, также выступающей в самых разнообразных формах. Например, относительно недавно в самом цехе лингвистов было достигнуто понимание, что общение глухонемых, сопровождаемое жестами, можно рассматривать как жестовую речь. Поэтому важно понять, каково место всех этих разнообразных и не совпадающих по сути форм и явлений в системе развития человека, особенно на его начальных стадиях.
В обыденном сознании широко распространено мнение об изначально позитивном влиянии новых технологических достижений на процесс развития человека в плане интенсификации деятельности, расширения ее творческих возможностей, освобождения от рутинных операций, увеличения доли свободного времени и т.д., что, прежде всего, связано с вхождением в повседневную жизнь разнообразных гаджетов — этих новых «посредников» мышления и деятельности. Вместе с тем, уже раздаются и критические замечания в адрес широкого внедрения цифровых технологий в деятельность человека, особенно детей раннего возраста. Активно исследуются такие явления, как утрата привычного уклада детства, сокращение связей подростков со своими сверстниками, появление разнообразных форм «зависимости», препятствующей нормативно фиксируемому в психологии процессу развития ребенка, и т.д.
Эти темы стали актуальными в современных условиях технологических изменений самой среды человеческой деятельности, появления и развития так называемой цифровой среды, приобретающей особое значение в качестве системы средств и посредников, используемых в коммуникативных процессах.
Анализ трансформации традиционных средств коммуникации особенно значим для проблемы развития самого человека в этих новых условиях происходящей цифровизации.
Исследование этой проблемы в русле современной трактовки фундаментальных идей культурно-исторической психологии и деятельностного подхода (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) вызвало к жизни потребность пересмотра представлений о взаимосвязи между орудием и знаком в процессе развития ребенка, которая в настоящее время предстает как проблема взаимосвязи предметной деятельности и общения. В наших работах (Нечаев, 2017; Нечаев, 2018) показана принципиальная возможность преодоления выявленных нами противоречий между позициями Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева по данной проблеме через анализ структуры совместной деятельности и выявление путей разрешения возникающих в рамках этой совместной деятельности противоречий, что также открывает перспективы для определенного пересмотра устоявшихся представлений о роли языка и речи в развитии коммуникативных возможностей ребенка.
Действительно, если современные цифровые формы предметной деятельности предполагают, что процесс преобразования объекта начинает носить виртуальный характер, то для выявления и описания результатов такого преобразования, т.е. того, что составляет предмет этой деятельности, необходимо использовать новые формы представления результатов подобного преобразования. И это необходимо делать не только и не столько для других, сколько для самого субъекта, что закономерно требует иных средств отображения процесса и результатов предметного действия, осуществляющегося в рамках совместной деятельности. Применительно к системе совместной деятельности, в которую объективно включен человек, уже можно говорить о «предметном» мире деятельности, формирующемся специфическими обобществленными способами и орудиями деятельности, когда непосредственный контакт с действительностью опосредован виртуальной реальностью ее разнообразных цифровых заменителей. Аналогично можно говорить и о цифровом мире коммуникации, в котором на смену традиционным формам реального взаимодействия, порождавшим «осязаемые» субъектом его отношения с другими, приходят формы столь же виртуальной коммуникации.
Все эти вопросы имеют непосредственное отношение к теме конференции (см. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции по психологии развития (чтения памяти Л.Ф. Обуховой) «Возможности и риски цифровой среды» (12–13 декабря 2019 г. МГППУ, г. Москва)), обсуждавшей возможности и риски цифровой среды, в которой разнообразные средства и технологии становятся уже незаменимыми посредниками в различных формах деятельности, в том числе и в деятельности детей, начиная с младенчества.
Приведем в качестве иллюстрации ситуацию, подобную которой многие из нас имели возможность неоднократно наблюдать в Интернете. Младенец в возрасте нескольких месяцев лежит на кровати, а мать кормит его с ложечки. При этом у нее на голове закреплен смартфон, экран которого обращен к ребенку, и во время кормления на нем демонстрируется изображение чего-то яркого и движущегося. Безусловно, ребенок поглощен этим зрелищем, и процесс кормления проходит легко и быстро. Другой пример, также представленный в Интернете: ребенок полутора лет сидит на горшке, но этот горшок закреплен на «самодвижущемся» роботе-пылесосе. Таким образом, ребенок, осуществляя важные для его близких органические функции, одновременно имеет возможность с помощью пылесоса «опосредованно» осваивать окружающую его действительность.
Казалось бы, преимущества раннего использования подобных гаджетов налицо. Однако многие, говоря об важности исследований детства в эпоху цифровизации, указывают на опасности «ухода» ребенка в виртуальный мир, реального оскудения его отношений с миром взрослых. В этой связи вновь актуальными представляются исследования М.И. Лисиной (Лисина, 1986), одного из самых глубоких исследователей становления различных форм общения ребенка в раннем возрасте и роли в этом процессе различных посредников, включая и язык, и речь.
Подчеркивая значимость общения, М.И. Лисина пишет: «В общении взрослые нередко прямо ставят перед детьми задачу овладеть каким-то новым знанием, новым умением. Настаивая на решении задачи, взрослые добиваются того, что ребенок с нею справляется. В качестве примера можно сослаться на овладение речью. Ничто в предметной действительности не заставляет ребенка заговорить. Лишь требования взрослых, да реально создаваемая ими необходимость вынуждают ребенка проделать гигантский труд, который для этого требуется» (курсив мой — Н.Н.) (Лисина, 1986, с. 26).
Чрезмерное стремление расширить какие-то возможности ребенка, развить его как можно раньше составляют одну из тенденций нашего времени. Отметим, что ребенок, доверяющий взрослому, принимает это и делает определенные усилия по совершенствованию своих возможностей. Однако фактом является и то, что ребенок при подобном развитии может спокойно обходиться без речи, если его специально не побуждать использовать ее в своей деятельности.
Излагая основы своей позиции, М.И. Лисина подчеркивает: «…рассматривая общение как психологическую категорию, мы интерпретируем его как деятельность, и потому синонимом общения является для нас термин “коммуникативная деятельность”» (Лисина, 1986, с. 11). «Из нашей дефиниции, — продолжает М.И. Лисина, — легко вывести две такие функции общения, как организация совместной деятельности людей (согласование и объединение усилий для достижения общего результата) и формирование и развитие межличностных отношений (взаимодействие с целью налаживания отношений). А из предложенного понимания предмета коммуникативной деятельности, ее мотива и продуктов естественно следует, что общение выполняет также третью важную функцию — познание людьми друг друга» (Лисина, 1986, с. 14–15). В принципиальном плане работы М.И. Лисиной и ее коллег закономерно рассматриваются как продолжение исследований Л.С. Выготского, касающихся «общей последовательности культурного развития ребенка», поскольку Л.С. Выготский неоднократно подчеркивал необходимость исследования взаимодействия взрослого с ребенком, в котором действия взрослого есть исходный момент для действий ребенка по отношению к самому себе. «Нам известно, — пишет Л.С. Выготский, — что общая последовательность культурного развития ребенка такова: сначала другие люди действуют по отношению к ребенку, затем ребенок вступает во взаимодействие с окружающими, наконец, он начинает действовать на других и только в конце начинает действовать по отношению к себе» (Выготский, т. 3, с. 225). По сути дела, здесь перед нами другая формулировка известного положения Л.С. Выготского о том, что «каждая высшая психическая функция появляется в процессе развития поведения дважды…» (Выготский, т. 5, с. 197).
Заметим, однако, что это положение Л.С. Выготского о стадиях становления так называемых высших психических функций, сформулированное в свое время под влиянием идей французской социологической школы, в настоящее время представляется не вполне правомерным, так как в нем налицо игнорирование активности, изначально присущей ребенку как живому существу, который, как отмечал П.Я. Гальперин, биологически лишен готовых программ поведения (Гальперин, 1998). В силу этого каждый ребенок вынужден активно вырабатывать собственные формы поведения, присваивая необходимые средства и способы совместной деятельности, являющиеся культурными артефактами социально-исторического развития общества, конечно, в меру наличного уровня складывающихся у него психологических возможностей взаимодействия со взрослыми и их развития в ходе совместной деятельности.
Значительное внимание в работах М.И. Лисиной и ее коллег уделялось становлению потребности в общении. В этой связи достаточно обратиться к характерному для младенческого возраста комплексу оживления, чтобы стало очевидным: комплекс оживления — это симптом появления потребности ребенка «в Другом», и он закономерно сопровождается и иными изменениями форм активности ребенка. Эти изменения отражают возникновение и развитие способов и средств коммуникации, внешним образом не совпадающих с формами и средствами коммуникации взрослых. Но за этими внешними формами стоят первичные «коммуникативные» значения, необходимые ребенку для осуществления коммуникации во взаимодействии / общении участников совместной деятельности, в котором он принимает посильное участие. Как пишет М.И. Лисина, «...мы согласны со всеми, кто подчеркивает, что общение есть не просто действие, но именно взаимодействие: оно осуществляется между участниками, из которых каждый равно является носителем активности и предполагает ее в своих партнерах» (Лисина, 1986, с. 7).
Например, Н.И. Лепская, исследуя становление начальных форм коммуникации у детей, описала, каким является ответ ребенка на «обращенный монолог» матери. Вначале, в возрасте от 2,5 мес. до 5–6 мес., это уже упомянутый комплекс оживления, сопровождаемый жестами и вокализациями. Следующий этап, в возрасте от 5–6 до 10–11 месяцев является принципиально новым для ребенка, ибо он овладевает способами инициирования общения и способен доступными ему жестами и звуками выразить свое желание общаться. Сущность общения на данном этапе, которое, по мнению Н.И. Лепской, можно назвать дуэтом, «заключается в том, что мать и ребенок попеременно, а иногда одновременно выражают свое эмоциональное состояние, как бы ведут свои коммуникативные партии» (Лепская, 2017, с. 26).
Представляется, что подобный дуэт не только по форме, но и по функции является диалогом, который включает перекрещивающиеся и «питающие» друг друга монологи. Это позволяет говорить о том, что даже с лингвистической, а тем более — с психологической точки зрения перед нами именно речь, пусть и не отвечающая неким нормативным характеристикам и реализуемая особыми средствами, которыми владеет ребенок на данных возрастных этапах.
Здесь, по нашему мнению, важно подчеркнуть, что комплекс оживления выступает конкретным свидетельством того фундаментального положения, что в ходе развития ребенка коммуникативные значения появляются значительно раньше, чем появляется речь, обычно понимаемая нами в том узком значении вербальной коммуникации, в которой используются разнообразные формы языка, «категоризированного» в соответствующих работах профессиональных лингвистов. Но даже и в этих работах можно встретить достаточно странные, на первый взгляд, формулы о так называемом доречевом этапе развития речи, в которых де-факто признается возникновение уже в раннем младенчестве специфических коммуникативных средств общения, обладающих значением не столько для взрослых, сколько для самого ребенка. Вот почему и само понятие речи должно рассматриваться нами и шире, и глубже. Как писал в свое время К. Маркс, «...индивид есть общественное существо. Поэтому всякое проявление его жизни — даже если оно и не выступает в непосредственной форме коллективного, совершаемого совместно с другими проявления жизни — является проявлением и утверждением общественной жизни» (курсив мой — Н.Н.) (Маркс, Энгельс, т. 42, с. 590).
Рождаясь, ребенок попадает в объективно существующую систему отношений, определяющих его бытие, которые поэтому необходимо должны выступить для него в виде его конкретных отношений с другими людьми, стать его социальной ситуацией развития и, соответственно, развития его сознания как идеальной формы и момента его реального бытия в совместной с другими деятельности. Но чтобы это произошло, должен возникнуть человеческий способ деятельности — «зерно» развития, превращающее его организменные нужды в человеческие потребности. Последующее удовлетворение этих потребностей становится основанием деятельности, внутренние противоречия которой становятся источником ее развития в том или ином направлении (Нечаев, 2018).
Такой базисной потребностью становится потребность в другом человеке — во взрослом; она возникает на фоне аффективно положительного состояния самого ребенка как организма, организменные нужды которого удовлетворяются взрослыми (Нечаев, 2017). Способом удовлетворения этой уже собственно человеческой потребности и становится общение, выступающее, в свою очередь, психологической основой дальнейшего развития различных форм и видов практического соучастия ребенка во взаимодействии со взрослыми.
Из множества возможных иллюстраций этого положения приведем две. Одна из них демонстрирует роль создания для ребенка канала общения, которого он был лишен. Речь идет о слабослышащем ребенке, которому надевают слуховой аппарат, и он впервые слышит голос матери и других взрослых. На его лице — весь спектр эмоций, от негативных, из-за беспокоящих его манипуляций, связанных с установкой слухового аппарата, до радостного изумления, когда он впервые отчетливо слышит голос матери, — перед ним открываются новые перспективы общения с близкими.
Другая касается наблюдаемой ситуации взаимодействия двух детей раннего возраста, причем один из них — трехмесячный младенец, а другой — его трехлетний брат, у которого в результате генетического сбоя нет ни рук, ни ног. Дети лежат недалеко друг от друга, и у них уже установлен визуальный контакт. В следующий момент старший, лишенный кистей и предплечий, подхватывает своими плечами соску, выпавшую из рта младенца, и вставляет ее в рот своему младшему брату. При этом оба не говорят, но общаются теми возможными средствами, которые доступны каждому на данной ступени развития их совместной деятельности (Three-Year-Old Boy Without Hands, 2017).
Эти примеры показывают, что общение развивается в процессе совместной деятельности, но не всегда нуждается в тех «речевых» формах, которые мы, взрослые, считаем речью — основной формой и средством нашего общения. В этом отношении весьма спорными становятся положения, сформулированные когда-то Л.С. Выготским в отношении закономерностей речевого развития ребенка. «Для того чтобы подойти к этому моменту в развитии речи, — писал Л.С. Выготский, — мы не можем не добавить одно существенное положение: мы видим, что голосовая реакция ребенка развивается в самом начале совершенно независимо от мышления. Ребенку меньше всего можно приписать в полтора года полноценное, сформированное сознание или мысль. Если ребенок кричит, меньше всего можно полагать, будто он уже по опыту знает, что происходит между криком и последующими действиями окружающих, и что его крик можно сравнить с нашими намеренными действиями или сообщениями, когда мы говорим, чтобы повлиять на человека» (курсив мой — Н.Н.) (Выготский, т. 3, с. 166). Именно этот взгляд заставил сформулировать Л.С. Выготского один из спорных на сегодняшний день тезисов, лежащих в основании культурно-исторической теории: «Самая сущность культурного развития состоит в столкновении развитых, культурных форм поведения, с которыми встречается ребенок, с примитивными формами, которые характеризуют его собственное поведение» (там же, с. 136).
Как нам представляется, в противопоставлении «натурального» и «культурного» развития Л.С. Выготский пытался «схватить» взаимосвязь развития организма и развития человека. Однако, если при этом мы понимаем роль органического развития (эмбриональная жизнь, юность, половая зрелость, процесс размножения, старость, смерть (Маркс, Энгельс, т. 20, с. 529)), то вряд ли стоило утверждать, что для «культурного» развития «натуральное» выступает как самостоятельная линия, сплетающаяся с «культурным», а не как, пусть и экзистенциально важнейшее, но все-таки лишь условие психологического развития, а не его форма. Отсюда и закономерное игнорирование Л.С. Выготским реальных проявлений происходящей аккультурации организма будущего человека, «возникающих» в теле Homo sapience с момента его рождения благодаря его включенности в жизнь взрослых. Примитивных форм у человека нет, а есть возникающие с момента рождения культурные, которые в ходе его совместной деятельности со взрослыми так или иначе развиваются — в меру успешности его вхождения в конкретные практические формы такой деятельности.
Это позволяет сделать следующий шаг и рассмотреть вопрос о том, как связаны между собой эти начальные формы «речи» и «языка» в ходе развития коммуникативной деятельности ребенка. И самое главное: в каких формах начинают существовать эти необходимые условия коммуникации? Понятно, что данная область исследований носит межпредметный характер, предполагающий участие специалистов самых разных сфер научной деятельности, а не только психологов. И в этом отношении для психологии особое значение имеют работы в области лингвистики, в которых на категориальном уровне по-новому ставятся фундаментальные проблемы сущности языка и речи.
В свое время Н.И. Лепская сетовала на то, что «...вопросы, связанные с формированием у ребенка речевых навыков и освоением им системы родного языка, долгое время оставались в сфере исследования только психологов и педагогов» (Лепская, 2017, с. 17). Однако в последнее время в этой — в определенной степени межпредметной сфере — тон стали задавать лингвисты (Цейтлин, 2000; (Воейкова, 2015; Успенский, 2012) и др. Это значит однако, что исследовательская проблематика формулируется как изучение лингвистики детской речи (Цейтлин, 2000), когда развитие речи ребенка определяется лишь через приобретение им устойчивых единиц номенклатуры языка в сфере фонетики, грамматики, лексики. Фиксируются возрастные периоды, характерные для освоения тех или иных уровней языковой системы. В качестве механизмов рассматриваются или созревание «врожденных структур языка», согласно концепции Н. Хомского (Воейкова, 2015), или же «самонаучение языку» (Абелева, 2004), либо утверждается, что «дар языка» (linguistic endowment) имеет биосоциальную природу, что лишь в новой оболочке воспроизводит идеи В. Штерна, сформулированные в его «теории двух факторов» (Успенский, 2012).
С устоявшейся в лингвистике со времен Ф. Соссюра точки зрения язык предстает как абстрактная система материальных объектов — языковых знаков, идеальную «сторону» которых составляют значения, которую сам Соссюр, будучи последователем Адама Смита, начинавшего свою научную деятельность в качестве лингвиста, обозначал как «стоимость» знаков. Однако эта точка зрения, при всей своей внешней очевидности, методологически несостоятельна, так как она представляет собой типичную форму «фетишизма», анализ которого применительно к «товарному» в свое время провел К. Маркс, раскрывший его сущность — приписывание материальным продуктам труда такого идеального — «сверхчувственного» — свойства, как стоимость (Маркс, Энгельс, т. 23, с. 83–94). В классической лингвистике, принявшей как аксиому взгляд на конвенциональный характер связи языковых знаков с предметами и явлениями действительности, закрепилось аналогичное «фетишистское» представление о том, что не человек, а именно знаки являются носителями значений, и, следовательно, для освоения ребенком значений необходимо, чтобы он в определенной последовательности овладевал единицами языковой системы, уже содержащей всю совокупность значений, которые человек не вырабатывает, а «усваивает».
Представляется, однако, что мы должны по-другому взглянуть как на «доречевые», так и собственно речевые формы и средства коммуникации. Отметим, что в современной лингвистике и психолингвистике созревает иной подход, исходящий из иной парадигмы, рассматривающий язык лишь как относительно упорядоченную совокупность разнообразных дискурсов. В рамках этой новой парадигмы предполагается, что человек осваивает слова не как единицы абстрактной системы языка, к которым «прикреплены» определенные значения, а как одно из материальных, возможно, и самых удобных, но лишь средств реализации коммуникативных актов, возникших в ходе исторического развития различных форм и способов коммуникативной деятельности и используемых для актуализации значений, имеющихся у партнера по коммуникации, обеспечивая, тем самым, успешность совместной деятельности.
В этом отношении я хочу обратить внимание на исследования А.В. Вдовиченко, в которых в новом ракурсе обсуждаются устоявшиеся в лингвистике представления о сущности языка и речи. «Слово, — пишет А.В. Вдовиченко, — не имеет никакого значения вне актуального говорения. Чтобы получить понимаемый смысл, оно должно стать «участником» личного актуального действия. «Ничьи» слова не могут иметь значения, поскольку «ничейность» означает отсутствие источника смыслообразования: значение словам придает сам говорящий посредством вовлечения в актуальную коммуникацию, в которой назначаются параметры личного действия и преследуются личные цели.
Каждое «словарное» значение (или изолированное значение лексемы) есть представление об актуальной ситуации, в которой данный звукокомплекс, по мнению данного коммуниканта, можно использовать» (Вдовиченко, 2009, с. 444).
Исследования А.В. Вдовиченко, как и исследования психолингвистов, разделяющих подобные взгляды, заставляют переосмыслить традиционную парадигму языка. Следует отметить, что аналогичный подход к этой проблематике характерен для некоторых представителей современной лингвистической философии. Так, А. Гжегорчик предлагает «…помнить о том, что ни одно слово не связывается напрямую с какой-то вещью: оно может соотноситься с этой вещью с позиции использования этого слова определенной личностью» (цит. по: Тимофеева, 2009, с. 31).
Подобный подход «взрывает» привычные для многих лингвистов и психологов взгляды и концепции. К сожалению, многие исследователи часто замыкаются в своей профессии и не замечают того, что делается в параллельных сферах и объективно влияет на ситуацию в науке в целом. Для психологии должно стать очевидным, что каждый человек всегда действует в мыслимой им коммуникативной ситуации, и в этом смысле уже виртуальной по сути, несмотря на непосредственное присутствие партнера совместной деятельности. И новые цифровые технологии в принципиальном плане ничего не меняют в этом отношении. Они лишь «удваивают» виртуальность любой коммуникативной ситуации, тем самым усложняя наше нахождение в ней.
Поэтому, как указывает А.В. Вдовиченко, «...с точки зрения коммуникативной реальности (единственно существующей для вербальных фактов), значение отдельно взятого слова представляет собой момент мыслимой коммуникативной ситуации, в которой может быть использован данный акустический (графический) комплекс. Слово, таким образом, является производной от целостной мыслимой ситуации, или частью дектической (указательной — Н.Н.) синтагмы, и вне ее не имеет никакого значения» (Вдовиченко, 2009, с. 448).
Адекватность применения определенного акустического комплекса можно показать на примере шуточного использования «тарабарского языка», когда соответствующий акустический комплекс, созданный говорящим и лишь фонетически напоминающий некий язык, выступает для слушающих набором незнакомых звуков, так как эти звуки не вызывают к жизни определенные значения, имеющиеся у слышащих эту «речь». Но таким же звуковым набором выступает любой «нормальный» язык, если для слушателя он является незнакомым ему иностранным языком. Человек, выражающий свой замысел в акте коммуникации, всегда «производит» слова своего «языка», используя сложившиеся у него схемы коммуникативных актов (более или менее обобщенных), которые, однако, для слушателя, если он не «знает» этого языка, выступают лишь как звуки. В этом случае коммуникативная ситуация, какой она выступает для говорящего, в системе деятельности другого участника коммуникации лишена значения.
По одной из гипотез происхождения слова «немец», оно возникло в связи с тем, что для русского уха «немецкая» речь напоминала звуки, посредством которых глухонемые пытались общаться со слышащими. Характерно, что первичные вокализации младенца в виде гуления похожи на звуки, которые производит глухонемой взрослый, не владеющий жестовым языком, и вряд ли несовершенство этих звуков, произносимых младенцем, не позволяет нам не считать их речью. Здесь также на первый план выступает проблема трудностей нашего понимания речи ребенка, связанных в данном случае не только с отсутствием в его вокализациях привычной для нас членораздельности, но, прежде всего, с мерой нашей включенности в мыслимую коммуникативную ситуацию, созданную ребенком и предполагающую понятный для нас контекст реального действия.
Итак, звуковая оболочка любой речи, а точнее, любого акта коммуникации, нужна для того, чтобы вызвать к жизни ту систему значений, которые имеет в виду производящий эту оболочку участник коммуникации. И только воспроизводя для себя смысл этого коммуникативного акта, другой участник коммуникации может адекватно осуществлять ответные действия.
То же самое происходит и с другим коммуникантом: при смене позиции в коммуникативной ситуации теперь он, используя соответствующие звуковые оболочки, вызывает «к жизни» те значения своего собеседника, которые обеспечивают адекватный ответ на реализованные в общении коммуникативные намерения и действия, позволяющие добиться успешности их совместной деятельности.
Попробуем представить себе систему взаимопонимания между людьми, рождающуюся благодаря совпадению смыслов реального практического способа деятельности, осуществляемого в рамках совместной деятельности. Тем самым, и сами реальные предметные действия и/или их имитация уже становятся коммуникативными средствами, которые могут активно использоваться. В процессе развития совместной деятельности и совершенствования системы коммуникации, в ее различных формах и видах, они становятся основанием, формирующим систему коммуникативных значений, каждое из которых сугубо уникальное, несмотря на общность средств и орудий практической деятельности, так как каждый из участников совместной деятельности находится в своих, по определению индивидуальных, обстоятельствах места, времени и действия, мотивированных специфическими для каждого потребностями и мотивами. Порой человек настолько «входит» в подобный язык практического действия, по-своему используя его средства, что бывает очень удивлен, когда его не понимают. Наглядным примером является язык жестов, которые в ряде случаев интернациональны, но в ряде других могут привести к серьезным коммуникативным «сбоям».
Исследования, направленные на выработку у ребенка умений «громкой социализованной речи», предполагающей умение говорить так, чтобы было понятно другим, связаны с выделением «речевого» этапа отработки действия в рамках теории планомерного поэтапного формирования умственных действия и понятий (Гальперин, 2007).
Опираясь на эту позицию, мы можем отметить, что специфика отображения «в речи» объекта деятельности по сравнению с его понятийным «отображением» заключается в том, что в коммуникации выявленные в процессе деятельности «предметные» свойства и характеристики объективного мира раскрываются с точки зрения задач коммуникации, обеспечивающей организацию совместной деятельности.
В данном случае «точное» информирование о «знаемых» свойствах преобразуемого объекта деятельности выступает лишь как одна из возможных задач, характерных для «научной» коммуникации, стремящейся к «объективации» полученного знания. В процессе овладения системой средств предметно-специализированной коммуникации субъект развивается как человек, обладающий осознаваемым, но «специализированным» сознанием, лишь относительно соответствующим и предметному содержанию совместной деятельности, и тем специфическим отношениям, которые возникают в этой деятельности, определяя ее характер и общую направленность.
В этом выражается определенная самостоятельность сознания по отношению к бытию. Отсюда значимость владения разнообразными способами и средствами коммуникации, которые отнюдь не всегда будут напоминать классические речевые формы — традиционные объекты лингвистических исследований. Столь же важно отметить достижение адекватности этих средств задачам, закономерно возникающим в процессе совместной деятельности и определяемым спецификой мотивов, целей и условий разнообразных видов и форм этой деятельности.
Иллюстрацией реального понимания (или непонимания) гуманитариями многого из того, что связано с инженерными технологиями, может послужить использование выражения «эта штука» применительно к каким-то сложным и незнакомым техническим приборам и агрегатам. Ровно такими же малознакомыми «штуками» для нас выступают, например, простые и универсальные детали сантехнического оборудования, так называемые фитинги. Оказывается, их сотни, и каждая такая деталь в профессиональной деятельности сантехника имеет свое значение в практической деятельности специалиста и, соответственно, закрепившееся за ней название, которое отнюдь не всегда практически использует сам специалист. Однако во многих случаях для нас как обывателей эти названия — почти тот же «тарабарский» язык.
О важности учета позиции «понимающего» применительно к другой сфере коммуникации, а именно к сфере искусства, говорил в свое время выдающийся отечественный лингвист А.А. Потебня: «Искусство есть язык художника, и как посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить и в произведении искусства; поэтому содержание этого последнего (когда оно окончено) развивается уже не в художнике, а в понимающих. Слушающий может гораздо лучше говорящего понимать, что скрыто за словом, и читатель может лучше самого поэта постигать идею его произведения» (Потебня, 1989, с. 167).
В этой связи можно привести ряд следующих аргументов А.А. Потебни, с помощью которых он пытается показать, что в качестве «первичного» знака-значения нужно рассматривать базисные смыслы, возникающие в деятельности и связанные с непосредственным контактом человека с действительностью: «Например, слово язвить … значит наносить раны, язвы. Допустим … корень … этих слов indh, жечь … есть древнейший, не предполагающий другого слова и прямо образованный из междометия: что будет внутреннею формою этого слова? Разумеется, то, что связывает значение со звуком. … Связующим звеном может здесь быть только чувство, сопровождающее восприятие огня и непосредственно отраженное в звуке indh. Так как чувство мыслимо только в отдельном лице и вполне субъективно, то мы принуждены и первое по времени собственное значение слова назвать субъективным. Понимание, упрощение мысли, переложение ее, если можно так выразиться, на другой язык, проявление ее вовне начинается, стало быть, с обозначения ее тем, что само невыразимо, хотя и ближе всего к человеку» (Потебня, 1989, с. 98–100).
Это понимание так называемой внутренней формы слова, как представляется, может быть использовано для характеристики ранних этапов речевого онтогенеза ребенка, которые обычно определяются как «доречевые». Сюда относят гуление и лепет младенца, хотя, наблюдая ситуации общения младенца с близким взрослым (хотя бы в рамках фиксации «расширения» круга взрослых, вызывающих его комплекс оживления), нельзя отделаться от мысли, что ребенок весьма избирательно использует совокупность разнообразных средств общения для разговора со взрослым, включая и гуление, и лепет.
Эти идеи А.А. Потебни были глубоко проанализированы современным философом и лингвистом В.В. Бибихиным. «Понимание, упрощение мысли, — пишет он, — это ее вхождение в язык, превращение психической данности в слово, что Потебня называет еще проявлением ее вовне. Завораживает уверенность, с какой Потебня определяет знак через то же самое, через знак. Именно так, не больше и не меньше. Непосредственное, первое сырое чувство Потебня называет также мыслью, насколько она при переходе в слово перестает быть уже только чувством. Обусловление мысли, переход ее в знак совершается через «обозначение» ее чем-то невыразимым, потому что слишком близким к человеку, не оставляющим места для еще большей близости. Превращение психического движения в знак происходит путем привлечения этого первичного знака, для которого никакого более исходного уже нет (Бибихин, 1995).
О сущности понимания коммуникативных значений, возникающего в процессе коммуникации, очень точно сказано выдающимся французским мыслителем и поэтом П. Валери: «Если я обращаюсь к вам, и вы меня поняли, значит, этих моих слов больше не существует. Если вы поняли, значит, мои слова исчезли из вашего сознания, где их заменил некий эквивалент — какие-то образы, отношения, возбудители; и вы найдете в себе теперь все необходимое, чтобы выразить эти понятия и эти образы на языке, который может значительно отличаться от того, какому вы сами внимали.
Понимание заключается в более или менее быстрой замене данной системы созвучий, длительностей и знаков чем-то совершенно иным, что, в сущности, означает некое внутреннее изменение или же перестройку того, к кому мы обращались. Доказательством этого утверждения от противного служит следующее: человек, не сумевший понять, повторяет либо просит повторить сказанное» (курсив мой — Н.Н.) (Валери, 1976, с. 414–415).
Как отмечает Б.А. Успенский, в коммуникативной ситуации при прочих равных условиях понимание в первую очередь наступает у слушающего и в силу этого — у говорящего (Успенский, 2012). Суть этого явления в том, что значение как результат понимания взаимосвязи объективных условий практического действия и его результатов появляется раньше знака, посредством которого мы эксплицируем понятое нами в виде его значения для нас. Поэтому, когда мы, вслед за лингвистами, говорим, что слова имеют значения, то в действительности психологически ситуация должна рассматриваться обратным образом: для возникающих в практической деятельности значений человек должен найти те средства (в частном случае, слова), с помощъю которых в рамках коммуникации он смог бы выразить то, что ему важно. Косвенным подтверждением этой мысли являются конкретные истории «нахождения» термина, адекватного соответствующему пониманию, — этого специализированного средства научной коммуникации. Именно в этих поисках и заключаются «муки» поиска слов, о которых писал Л.С. Выготский (Выготский, т. 2, с. 355–356) И поэтому же в некоторых коммуникативных ситуациях, особенно бытового характера, некое важное содержание проще выразить и без слов, а простым взглядом, жестом или изменением выражения лица.
Любопытным примером такого общения является разговор двух близнецов раннего возраста (Разговор двух близнецов, 2011). Эти дети говорят на своем особом языке, на так назваемой криптофазии, т.е. скрытой речи. Ее специфика в том, что артикуляторные возможности этих детей еще несовершенны, и взрослые в подобных случаях понимают то, что пытается «сказать» ребенок ситуативно, лишь благодаря практическому контексту их коммуникации. Однако ситуация с близнецами является совершенно особой, так как они между собой — на своем, так сказать, «горизонтальном» уровне — хорошо понимают друг друга. Более того, часто в близнецовой ситуации особый язык продолжает существовать и на дальнейших этапах речевого развития, когда они овладевают «нормальной» речью.
Как показывает анализ подобных «языков», большинство «слов» этого языка являются искажёнными до неузнаваемости словами, которые дети слышали от взрослых. Подчеркнем поэтому, что на самом деле дети — как и взрослые — слышат не слова, а лишь звуки, причем эти звуки проходят через их «детское» восприятие членораздельной «взрослой» речи.
Следовательно, подобная речь — это всегда результат обработки ребенком «речи» взрослых, оформляющий его собственную фонетическую картину речи взрослых и служащий психологической основой ее воспроизводства в актах коммуникации, за которым, однако, всегда стоят его значения, а не значения взрослых.
Очевидно, что факты такой криптофазии свидетельствуют о потребности участников коммуникации удержать результаты своего понимания, возникшие в ходе их практической деятельности, сделать их предметом коммуникации для себя, а затем и для других в свете реализации потребности в другом, потребности быть с другими и другим, мотивы которой, конечно, трансформируются в процесс развития деятельности.
«Идеальный» план деятельности всегда требует «носителя» своего содержания. Под такого рода носителем традиционно понимается так называемый внутренний план деятельности, хотя в действительности речь должна идти об «умственном» (Гальперин, 2007), т.е. умозрительном плане деятельности, который при этом для самого субъекта всегда остается ее «внешним» планом.
Значения — как смыслы коммуникативного акта — возникают в предметной практической деятельности, связанной с преобразованием фрагментов объективной действительности и, следовательно, нуждаются в «носителе», в средствах актуализации этого или аналогичного значения у партнера по коммуникации. Этим носителем может быть сам результат деятельности — преобразованный объект, если контекст совместной деятельности таков, что все становится понятным «без слов». Если этого контекста нет, то чтобы «вычленить» это значение из самой ситуации практического действия, представить его отдельно от объекта и результата практического взаимодействия, нужен другой объект, которым может стать звук (графема, жест, поза, и т.п.). И только в результате «обретения» значения эти материальные «посредники» становятся знаками.
Еще одним примером может служить игра «Испорченный телефон», популярная в эпоху коллективных детских игр. Ее суть — в возникновении у каждого следующего участника общей цепочки своей фонетической картины переданного ему сообщения, часто — сделанного с его намеренным искажением, а следовательно, каждый услышанный звуковой комплекс актуализирует совсем не те значения, которые должны возникнуть у партнера, что создает для следующего участника проблему правильного воспроизводства тех своих значений, которые должны соответствовать задуманным в начале цепочки.
Здесь необходимо подчеркнуть два момента. Первый заключается в том, что именно значения, а не их материальные носители являются коммуникативными средствами. Второй момент связан с необходимостью поиска другого материального объекта для представления этого значения. Здесь вновь можно упомянуть концепцию поэтапного формирования, «развертка» которого во времени демонстрирует, что в процессе формирования нового «умственного» действия, существующего «вначале» в его материальной форме, учащийся обретает значение, показателем наличия которого является возникающая «разумность» его действия. Но чтобы субъект мог овладеть им как неким самостоятельным объектом своего действия, ему нужно сменить носитель — перейти к носителю, который мы называем «речью». Именно благодаря коммуникативным актам разрешается «сверхзадача» взаимопонимания: разъяснить другому для того, чтобы «осознать» самому. В общей форме этот процесс обрисован в известных словах К. Маркса: «На «духе» с самого начала лежит проклятие — быть «отягощенным» материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоёв воздуха, звуков — словом, в виде языка» (Маркс, Энгельс, т. 3, с. 29).
В этой связи возникает еще один важный аспект понимания взаимосвязи значения и формы его представления в актах коммуникации, связанный с культурной преемственностью самих фонетических (графических) форм, используемых в общении. Действительно, отсутствие «адекватного» значения при восприятии сообщения ведет к тому, что утрачивается адекватность его «коммуникативного» осознания. Например, современные первоклассники «по-своему» осознают следующие строки А.С. Пушкина:
«Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая.
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке».
Для первоклассников «бразды пушистые» — это некие зверьки (пушистые же!), вероятно, помесь бобра с дроздом, а кибитка — это что-то вроде ракеты, которую направляет некий ямщик, чтобы взорвать несчастных «браздов» («Бразды пушистые…»).
А.В. Вдовиченко пишет: «Между словесным отрезком, который простирается от точки до точки («предложением»), и целостным коммуникативным действием, в состав которого входят данные словесные элементы (если условно считать предложение соответствующим действию), следует констатировать кардинальное отличие. Вербальный остов, восстанавливаемый по графемам в виде звучащих коммуникативных клише, является лишь внешним неточным пунктирным «следом», по которому можно продвинуться к воссозданию целостного семиотического поступка Интерпретировать слово [да] (как, впрочем, и любые слова) можно только при условии, что в этот момент воссоздается индивидуально мыслимый, зачастую очень сложный и нюансированный, контент сознания говорящего. Этот контент входит в состав актуального коммуникативного действия, но не может быть проявлен в самом слове, произносимом или изображаемом на письме в момент коммуникативного действия» (Вдовиченко, 2018).
С этой точки зрения мы по-новому должны взглянуть также и на собственно речевые формы и средства коммуникации. В этой связи стоит отметить коммуникативное богатство самих значений любой конкретной единицы «нормального» вербального языка, то, что в традиционных лингвистических исследованиях рассматривается как проблема полисемии / омонимии. Например, к прилагательному «рассеянный» словарь синонимов русского языка предлагает с десяток «значений» данного слова, т.е. возможного использования данного звукового комплекса в различных коммуникативных контекстах. На этой же основе строится его сочетаемость в каждой конкретной коммуникативной ситуации. В Интернете популярна фраза на русском языке, способная ввести иностранца в когнитивный диссонанс: «Косой косой косил косой косой». Есть такие фразы и в английском языке. То же слово умник в различных контекстах может значить и дурак, и умный, и больно умный, что определяется не только фонетическими особенностями произнесения, но, прежде всего, контекстом коммуникативного действия. Схожий пример, касающийся уже ненормативной лексики, упоминал Л.С. Выготский, ссылаясь на описанную Ф.М. Достоевским сцену с участием нескольких пьяных мастеровых, которые, по-разному оценивая нечто случившееся с ними, употребляли одно и то же крепкое словцо (Выготский, т. 2, с. 338–339).
Специфика невербальных и шире — паралингвистических средств отражена, в частности, в исследованиях американского психолога А. Мехрабиана. Исследователь пришел к выводу, что привычная вербальная форма сказанного обеспечивает понимание сообщения лишь на 7%, еще 38% — это понимание, обеспечиваемое фонетическим характером звуков, произносимых в процессе коммуникации, так сказать «оформляющих» это словесное содержание (интонация и др.). Поэтому характер коммуникативного использования любой словоформы вербального языка определяется теми значениями, которые в каждом конкретном случае имеет в виду человек, использующий эту словоформу, меняя определенную интонацию. Так, фраза «Зачем ты это сделал?» может быть не просто вопросом, но и угрозой, выражать сожаление, недоумение, душевную боль и пр. А оставшиеся 55% «понимания» обеспечиваются т.н. невербальными средствами (кинесика, проксемика и др.), необходимость использования которых вытекает из особенностей коммуникативной ситуации, характерных для той или иной общности (Mehrabian, 2016). Роль этих средств особенно наглядна, если мы проанализируем факты разнообразных жестов, которыми мы сопровождаем наш разговор по… телефону, несмотря на то, что для слушающего нас абонента они недоступны.
Подчеркнем поэтому, что в процессе создания цифровой среды, о которой мы писали в начале статьи, существенным образом изменяется материальная форма различных средств коммуникации, а это действительно чревато существенными рисками для сохранения сложившихся в истории человечества форм коммуникации. Но с психологической точки зрения нас, в первую очередь, должны волновать возможные последствия этих формальных изменений, связанные с кардинальной трансформацией самого процесса образования коммуникативных значений, богатство «производства» которых определяется разнообразием содержания и соответствующих орудий нашей предметной практической деятельности, выступающей их основным источником.
Если в античном театре средствами выражения «смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев) были условные маски, которые, по описаниям современников, вызывали у зрителей неподдельные эмоции (Фрейденберг, 1998), то в наше время, в эпоху цифровизации, средствами «передачи» эмоционального состояния являются более чем условные смайлики (эмодзи), с помощью которых вряд ли можно добиться подобного эстетического «заражения». И это служит яркой иллюстрацией того, что технологические изменения, предполагающие смену используемых материальных форм и средств коммуникации, несут определенную угрозу утраты прежних возможностей нашего общения, предполагающего «расширенное воспроизводство» коммуникативных значений, составляющих и содержание этого общения, и условие его развития.
Литература
- Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. М.: Логос, 2004. 304 с.
- Воейкова М.Д. Становление имени. Ранние этапы освоения детьми именной морфологии русского языка. М.: Фонд «Развитие фундаментальных лингвистических исследований», 2015. 352 с.
- Бибихин В.В. В поисках сути слова // Новое литературное обозрение. 1995. №14.
- «Бразды пушистые…» // сайт «Избранное» http://izbrannoe.com
- Валери П. Поэзия и абстрактная мысль // Валери П. Об искусстве. М.: Искусство, 1976. С. 400–433.
- Вдовиченко А.В. Расставание с «языком». Критическая ретроспектива лингвистического знания. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. 510 с.
- Вдовиченко А.В. С возвращением, автор, но где же твой «текст» и «язык»? О вербальных данных в статике и динамике. Часть II // Вопросы философии. 2018. №7.
- Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти тт. М.: Педагогика, 1982–1984.
- Гальперин П.Я. К вопросу об инстинктах у человека // Гальперин П.Я. Психология как объективная наука. М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. С. 399–414.
- Гальперин П.Я. Лекции по психологии. М.: КДУ, 2007. 400 с.
- Лепская Н.И. Язык ребенка: онтогенез речевой коммуникации. 2-е изд. М.: РГГУ, 2017. 311 с.
- Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М.: Педагогика, 1986. 134 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. В 50 тт. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955–1981.
- Нечаев Н.Н. Социально-психологические аспекты онтогенеза дискурса // Язык и культура. 2017. №37. С. 6–28.
- Нечаев Н.Н. О возможности реинтеграции культурно-исторической психологии Л.С. Выготского и теории деятельности А.Н. Леонтьева // Вопросы психологии. 2018. №2. С. 3–18.
- Нечаев Н.Н. Категория развития как основа психолого-педагогических исследований образования // Культурно-историческая психология. 2018а. Т. 14. №3. С. 57–66.
- Нечаев Н.Н. «Язык» и «речь» в системе онтогенеза психологических возможностей человека // Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции по психологии развития (чтения памяти Л.Ф. Обуховой) «Возможности и риски цифровой среды» (12–13 декабря 2019 г., МГППУ, г. Москва).
- Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня А.А. Слово и миф. М.: Правда, 1989. 282 с.
- Разговор двух близнецов (видео — 2011 г.) // https://www.youtube.com/watch?v=1ipFEeHt52c
- Тимофеева М.К. Язык с позиций философии, психологии, математики. М.: Флинта; Наука, 2009. 176 с.
- Успенский Б.А. Ego Loquens. Язык и коммуникационное пространство. М.: РГГУ, 2012. 344 с.
- Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. 2-е изд. М.: Восточная литература, 1998. 800 с.
- Цейтлин С.Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи: Учебное пособие. М.: ВЛАДОС, 2000. 240 с.
- Albert Mehrabian, Ph.D. Biography, Publications, Websites. 2016 // http://www.kaaj.com/am
- Three-Year-Old Boy Without Hands Or Legs Is Still The Best Big Brother/ 2017 // https://www.southernliving.com/news/texas-boy-without-hands-legs-best-big-brother






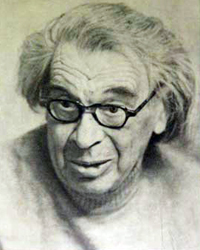




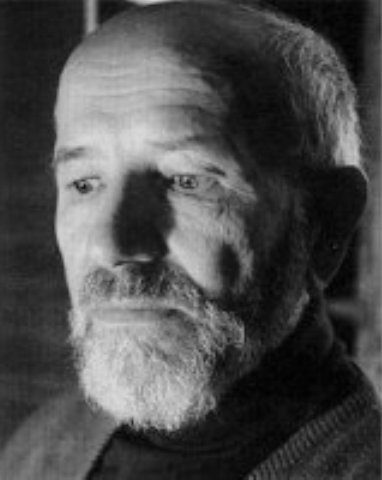

.jpg)





















































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать