
Интервью с доктором психологических наук Татьяной Давидовной Марцинковской продолжает серию публикаций, в которых представлены взгляды авторитетных ученых-современников на актуальные проблемы и направления исследований психологической науки. Вопросы задавал Тимофей Александрович Нестик.
Беседа состоялась в рамках серии интервью с российскими психологами, проведенных в 2017–2020 гг. при финансовой поддержке РФФИ (проект «Социальные представления российских психологов о будущем психологической науки», №17-06-00675).
1. Пожалуй, главный вопрос, с которого я хотел бы начать нашу встречу, это вопрос о том, какие исследовательские темы сейчас в фокусе Вашего внимания, что привлекает больше всего.
У меня две темы в приоритете. Первая — старая, тянется издавна, но до сих пор актуальна — это методология, которой мы занимались еще с Андреем Владиславовичем Юревичем и с Михаилом Григорьевичем Ярошевским. Она то ослабевает, то, наоборот, нарастает в зависимости от ситуации, но чем больше я сейчас смотрю на студентов, тем больше понимаю, что все-таки должна быть какая-то методологическая база, чтобы они хотя бы понимали, что теория и методология — это две разные вещи, без этого нельзя выстраивать исследования.
Вторая тема, которая даже в большей степени сейчас меня занимает и которая находится в центре эмпирических исследований, — это психология транзитивности, т.е. психология общества, находящегося в ситуации множественности, изменчивости, неопределенности. Там несколько направлений. Это изучение процесса социализации, и самореализации, и то, что сейчас очень важно, — информационная социализация. Может быть, по эмпирике она сейчас приоритетна. Но это все то же самое, потому что сейчас и социализируются, и идентифицируются еще и в виртуальном пространстве, а виртуальное пространство в транзитивности — это уже другая проблема.
Вот такие две темы, они то сходятся, то расходятся, — расходятся, потому что методология транзитивности — это уже, как оказывается, другая тема.
2. А в чем?
В чем — могу сказать. Дело в том, что мы привыкли к тому, что существует пусть и не классический, парадигмальный или мультипарадигмальный подход, а ведь в транзитивности реально нет парадигмы.
Я же по первому полуобразованию физик, первые два курса я училась в МИСиС, пока меня не унесло в психологию. Сейчас мы, мои ребята, начали набирать эмпирику, я сейчас и с Еленой Павловной Белинской активно взаимодействую по этой проблематике, и у меня есть четкое ощущение, что виртуальность и транзитивность очень похожи тем, что там нет жестких причинно-следственных отношений. Это фактически ядерная физика, это Бор и Гейзингер, т.е. теория неопределенности: человек — то частица, то волна. Понять, что, где, когда — очень сложно, может быть, и не нужно, но результат в том, что мы теряем некоторые вещи, которые в советской психологии были в приоритете. То есть то, что поступок или деятельность — это феномен личности, неверно. Все совершенно по-другому, и надо смотреть, как мы можем исследовать, какими открытыми конструктами, которые фактически не парадигмы, а меняются и открыты для изменений и тоже лишены этой жесткой причинно-следственной связи, — это должна быть какая-то новая методология, которую мы сейчас пытаемся найти.
Что касается собственно психологии личности... Мы совершенно случайно вышли на такую интересную вещь, как опросник информационной идентичности Берзонски, там есть стили — классический, диффузный и информационный. Классические информативные люди в ситуации и транзитивности, и виртуальности теряются, им плохо — они теряют идентичность, у них появляется огромная тревога или агрессия, потому что нет понятия «да/нет», «черное/белое». Диффузным, как всегда, все равно, где и как. Информационным здесь легче, потому что они привыкли искать информацию, то есть они не готовые ответы смотрят, они ищут. Но таких, как оказывается, будем оптимистами, процентов двадцать. По нашим результатам, даже где-то десять, среди молодежи чуть больше.
И поэтому нам нужны какие-то новые исследовательские вещи, типа даже того же Берзонски, какие-то новые конструкты, которые это выстраивают исследовательски, теоретически, но нам нужно и очень много новой эмпирики, которой не хватает.
3. А в каких областях такая terra incognita, которая ни нами в России, ни в мировой психологии не изучена?
Во-первых, terra incognita есть не только у нас, хотя у нас особенно. Дело в том, что все говорят, что у нас новое, подрастающее поколение по-новому видит мир, и оно его действительно видит по-новому. Мы же наблюдаем, что маленькие дети обращаются с гаджетами лучше, чем взрослые. Но нет никаких данных — ни в физиологии, ни в психофизиологии, ни в нейропсихологии, ни просто в когнитивных нейронауках, которые показали бы, как это происходит. А без этого мне, например, очень сложно что-либо говорить. Я вижу, как ситуация меняется, я вижу, например, тот феномен, что в три-четыре года общий интеллект растет, а вербальное мышление, даже к пяти годам, серьезно отстает. За счет чего? За счет, может быть, какого-то другого, если вернуться к Запорожцу, образа, схемы — надо же иметь здесь какие-то данные.
И я пытала многих моих знакомых — и психологов, и когнитивистов, и тех, которые, имея дело с детьми, занимаются именно этим, и тех, которые занимаются другим. Все очень сложно... Вроде как заниматься этим пытался Институт возрастной физиологии, но факт тот, что пока ничего нет, и не только у нас.
А у нас вот еще какая проблема... Она нам мешает, если не сказать, что это просто цепи какие-то. У нас до сих пор установка на сакральность. То есть, как что-то пятьдесят лет назад сказал, например, Выготский, или Леонтьев, так всё, это нельзя изменять, несмотря на то, что сейчас уже и век другой, и все другое. Ничего доказывать мы не хотим, как сказали — так оно и есть. Мы очень любим иконы, наши иконы — «Ах, у нас Леонтьев» и всё, ни шага в сторону. Когда я начала работать в этом институте, оказалась, то просто пришла в ужас, потому что здесь вообще не знали, что произошло в психологии за последние лет сто, с 1930-х годов. Единственный, про кого говорили, что знают, — это Выготский, а когда я начала копать, они и его не знают, и все объясняли зоной ближайшего развития, игровой деятельностью.
В общем, мне пришлось им показывать, доказывать, что новое в мировой и отечественной психологии. И, главное, студенты такие же росли, это ужасно, дети-то как раз в первую очередь должны идти за новым знанием.
И эта любовь к иконам и незнание истории нас очень связывает. На факультете это присутствует, может быть, в меньшей степени, чем здесь, но зато здесь дело за год сдвинулось, потому что все этого очень хотели, а на факультете это, по-моему, намного сложнее. По-моему, это есть и в «Вышке», может, и не в такой степени — в общем, к сожалению, так везде, и это нам очень мешает.
Конечно, то, что у нас в приоритете гуманитарный аспект психологии, тоже плохо. У нас есть сильная группа когнитивистов, но, во-первых, она все-таки в основном в «Вышке», а во-вторых, они не выходят из своей норки. Я со всеми из них говорила, и они считают, что раз они нечто померили, то все прекрасно.
Но зато у нас есть очень сильный аспект исследований — мы любим интерпретировать то, что получили. И это очень важно, потому что, когда я разговариваю с американскими, да и с немецкими коллегами, они говорят: «А что значит, куда это девать? Получили, вот оно и есть. Это, знаете, пусть социологи, философы, культурологи думают, наше дело — померить и получить результат». А те же культурологи или социологи интерпретируют все это по-другому, они не понимают наших целей, они даже наши термины используют совершенно иначе.
Поэтому нам надо было бы именно это развивать — интерпретацию, но только не на базе того, что кто-то где-то когда-то сказал, а на базе того, что мы получили эмпирически, и соединять слова с опытом. Этому надо учить людей, чтобы они, с одной стороны, посчитали, построили модель — чудесную, прекрасную, любую, — но потом объяснили бы, что она вообще значит и что с ней дальше делать.
4. Меняет ли это требования к выпускнику психологического факультета? Какими компетенциями должен сейчас обладать психолог-исследователь, для того чтобы решить комплексные задачи? Разумеется, слово «компетенции» можно заменить на какие-то другие, более подходящие слова.
Нет, реально все, что мы пишем, все эти компетенции — ОЭПК, ОПК-1, 2, 10, не знаю, сколько... Слава богу, что у меня есть две девушки, которые этим владеют. А вот реальных компетенций, или способностей... или не знаю, чего там, требований — их нет. Их нет единых, и более того, у меня такое ощущение, что разные структуры совершенно по-разному видят себе и выпускников, и требования к ним, и представления о том, что они должны уметь. Даже самые близкие единомышленники, положим, Наталия Гришина из Питера, или Марина Гусельцева, или Мария Фаликман, я уже не говорю про других наших мэтров, которые работают на факультете или в «Вышке», — все всё видят по-разному. Одни говорят: «Главное, что он должен уметь, — это строить модели». Другие: «Главное — он должен ориентироваться в транзактном анализе и в персонологии. Ну как же так — он не знает, что такое поток Чиксентмихайи?» Да, может, кто-то и не знает, ну и что, зато он знает что-то другое. А еще теория деятельности. У меня здесь преподает ее последовательница Ирина Александровна Петухова... понятно, что она читает очень квалифицированно. Но ведь важно показать и то новое, что есть сейчас.
В принципе, если нормально к этому подойти и поговорить со многими вменяемыми людьми, наверняка, можно найти общие подходы и точки соприкосновения. То есть человек все-таки должен знать определенную теорию, без базы он не сможет работать даже в практике. Он должен обладать и практическими умениями — не надо консультировать, но хотя бы просто уметь говорить о практике. Ну и, конечно, надо уметь поставить задачу, выдвинуть гипотезу, провести хоть какое-то исследование и грамотно это дело обсчитать — не знаю, моделированием или не моделированием, но хоть как-то.
Я знаю людей в магистратуре, которые до сих пор считают корреляции вручную. Я была потрясена.
5. Как, на Ваш взгляд, новые технологии, в том числе большие данные, виртуальная реальность могут изменить сами методы исследования? Как они могут повлиять на развитие психологической науки?
По-моему, очень серьезно, просто кардинально. Во-первых, виртуальная реальность может просто повернуть стиль мышления и, соответственно, картину мира любого человека. И для нас очень важно, чтобы мы понимали, как эта картина мира у нас меняется, чтобы мы отслеживали это профессионально, а исходя из этого мы должны понимать, как выстраивать новые методы исследования — не надо уже по деятельности, надо как-то по-другому — виртуальные опросы, эти огромные базы данных, которые, конечно, должны как-то проверяться на истинность.
С другой стороны, очень интересно посмотреть и свериться, насколько они, извините, врут. Потому что виртуальная идентичность — это очень интересная вещь: что себе показывают и как себя презентируют. То есть реально мы будем иметь, мне кажется, уже лет через десять — все так быстро развивается — не просто новое поколение, а какую-то новую цивилизацию. Соответственно, мы совершенно по-другому должны смотреть, как изучать, куда идти, чтобы мы могли прогнозировать хоть какие-то тенденции, а не плестись в хвосте.
6. Какие тренды сейчас особенно сильно влияют на формирование новых поколений? Под влиянием каких изменений рождается сегодня эта новая цивилизация?
Мне кажется, пока в первую очередь, конечно, технологических, потому что технологии интериоризируются. Это то, что очень хочется посмотреть и для чего мне лично не хватает аппаратуры и людей, вообще рук не хватает, а сейчас особенно — когда сидишь и бумажки пишешь. Потому что раньше было понятно: самолет, телевизор — это все внешнее, а как только пошли все эти интернет-вещи, то это совершенно другое мышление, другие движения, другое представление о себе, о мире, обо всем. То есть, если брать того же Выготского, это уже не внешнее орудие, а внутреннее. Все действительно перешло вовнутрь, и мы даже не замечаем, каким образом мы этим пользуемся.
И речь изменилась, а ведь речь так важна, для того чтобы мы формулировали хоть какие-то наши представления и мысли. То есть, конечно, в первую очередь именно технологии влияют на эти цивилизационные вещи.
С другой стороны, технологии передвижения, еще старые, повлияли на социальные вещи. То есть то, о чем еще лет тридцать назад говорили этнопсихологи, — разные ценности, разные способы общения. И без того разные культуры стали еще более резко разными, но при этом мы все внутри перемешиваемся.
И миграционные вещи — они, с одной стороны, соединяются, а с другой — идут тяжелые конфликтные процессы. У меня сейчас кончается грант, в рамках которого мы изучали и сравнивали басков во Франции и в Испании, а в рамках другого проекта у нас были финский и карельский языки в Финляндии и Карелии и немецкий и французский в Эльзасе и Лотарингии. Оказывается, именно среди молодежи идет очень резкое, буквально вплоть до агрессии, противостояние на тему «либо мы ассимилируемся, либо мы отстаиваем свой приоритет». И это тоже абсолютно новые тенденции. Я уж не говорю про мусульманские дела, ставшие уже общим местом. Но ведь раньше мы с этим не сталкивались, а теперь мы в этом живем.
Мне кажется, что это та самая информационная идентичность. То есть информационная транзитивность — это, помимо всего прочего, множественность выбора, а значит, неопределенность, которая, понятно, фундируется изменчивостью. Но это одно, и к этому можно хоть как-то привыкнуть, хоть как-то это спрогнозировать. А вот множественность многие люди не переносят, потому что множественность всегда требует определенного выбора, своего, личностного. Но, видимо, то, что человек не хочет сам делать выбор, было свойством людей всегда. Ведь если взять тех же Эпикура с Аристотелем, они писали все то же самое, просто другими словами.
7. То есть отстаивание своей этнической идентичности как способ уйти от выбора?
Да, как способ уйти от выбора. Ведь есть черное и белое, и не надо мне больше никакого выбора. Вот она, моя стабильность, и я либо буду тихо в ней сидеть, либо пойду ее отвоевывать — это уж зависит от ситуации. Но это, как правило, путь людей, которые боятся собственной ответственности, которые реально не хотят выбирать, не хотят расти, не хотят вообще что-либо делать.
Причем у нас есть интересные данные по современной молодежи, в основном нашей. Даже в таких традиционных республиках, как Бурятия, идет персонализация: «Я буду таким-то, я буду иметь то-то», а личностный рост, творческий и подобные ценности его не интересуют. И это тоже такой современный феномен.
8. А могут ли психологи как-то помочь обществу в этой текучей современности? Можем ли мы как-то помочь ему справиться с этим выбором или принять возможность этого выбора? Вообще, какие новые требования предъявляет жизнь к психологическому сообществу, или какие вызовы она ставит перед нами?
Мне кажется, жизнь все время ставит перед нами новые вызовы, мы просто не хотим их видеть. Еще психология все-таки наука социальная, она вплетена в социальную и политическую жизнь. И если общество или элиты совершенно не хотят ничего делать, ничего менять, ничего не хотят от психологии — «сиди тихо, получай свои гранты», — то, естественно, без каких-либо властных полномочий, даже не финансовых, а именно организационных, мы ничего сделать не можем.
К тому же мы ведь тоже не хотим видеть новое, мы тоже хотим жить в стабильной ситуации. Мы не можем изменить себя, а значит, мы не можем изменить и других. То есть психология может помочь, но только она должна начинать даже не с подростков, а с детей. Мы, наверно, должны по-другому их воспитывать, давать какие-то другие игры и эталоны. Мы до сих пор говорим, что игра — ведущая деятельность, но сейчас все совершенно по-другому, и понятие ведущей деятельности, и сами игры. Они же недаром играют в компьютеры. А через виртуальность нужно создать такие игры, которые, начиная с детства, давали бы возможность нормального выбора, серьезной ответственности, показывали бы, например, что той «запасной жизни», о которой они рассуждают в духе «сейчас я это сделаю, а потом у меня будет много чего еще» и которая порой реально переходит у них в какие-то суицидные явления, на самом деле не будет.
Должен быть совершенно другой стиль воспитания, не авторитарный. Если ты получил авторитарное воспитание, значит, патернализм в тебе дальше на всю жизнь. И это не только у нас, это и в Европе, и во многом в Штатах. Может быть, там нет патернализма, но ответственность там тоже на себя брать не хотят. А без этого общество, я боюсь, не справится с вызовами той же транзитивности, потому что мы должны решать сложные проблемы и экологии, и межэтнических конфликтов, и политических.
Так что психология многое может, у нее есть инструменты, у нее есть знания и психофизиологии, и нейропсихологии, и, скажем так, души и личностных вещей, мы знаем понятие индивидуальной нормы. То есть мы много чего знаем, но мы закукливаемся, и это знание не переходит в какие-то практические вещи, если не считать просто консультирования, но это совсем не то, что нужно.
9. Знаете, Вы не первая, кто в ходе интервью говорит о том, что растет число людей, не готовых выбирать, что, как некоторые это сформулировали, растет культурная пропасть между теми, кто готов к неопределенности, готов к выбору, и теми, кто стремится от этого уйти. Как на этот раскол может повлиять внедрение искусственного интеллекта? Сейчас эти технологии постепенно проникают в нашу повседневную жизнь, пока что это просто алгоритмы, но алгоритмы быстро обучающиеся. Если спрогнозировать развитие на ближайшие, скажем, лет двадцать, каковы могут быть последствия?
Лет, может быть, даже меньше. Все так быстро развивается, просто удивительно. То есть лет пять назад я и подумать не, могла, что мы можем дойти до жизни такой. Но дело в том, что проблемы искусственного интеллекта лет на пять-семь вперед действительно огромны. Во-первых, это чисто внешние проблемы, связанные с тем, что с развитием ИИ большое количество людей остается без работы, и это то, что очень плохо понимают элиты, но чувствуют многие простые люди во всем мире. Например, когда я сейчас была в Бостоне и говорила с ребятами из Northeastern University, то узнала, что у них рыбаки, подсобные рабочие в совершеннейшей панике.
А там же еще MIT, они как раз все это разрабатывают, и результаты разработок растут и заменяют людей. То есть таким образом вызывается социальная агрессия. Это первое. Принять мысль о том, что человек должен иметь образование, для большинства людей во всем мире очень сложно. Раньше делали карьеру безо всякого образования. А без образования идея, что «я за себя отвечаю», просто невозможна — неразвитый интеллект не может принять такую мысль. Значит, опять-таки это не только внутренняя, но и внешняя проблема.
Наконец, то, что я говорила: наверно, это свойство человека — тенденции к равновесию, к гомеостазу, когда «все хорошо, не буду я выходить из этой ситуации». Но тем не менее есть люди, которые на жесткий вызов готовы встать над ситуацией и принять решение, но есть и те, которые готовы лишь спрятаться в норку.
Наверно, все-таки хорошее образование, в том числе и хорошее психологическое образование, может дать людям умение отвечать на вызовы. Ведь недаром в институты на психологию идут люди, которые в первую очередь хотят разобраться в себе, и это хорошо, пусть разбираются. Но таких немного, и пропасть растет, и ситуация с пропастью в первую очередь начнет взрываться именно в социальной сфере. То есть не то, что их кто-то заставит интеллектуально расти или в обязательном порядке получать образование, — их, может быть, просто оставят без работы, без куска хлеба.
10. Так называемые лишние люди?
Да. И это очень опасно. Между прочим, говорят, в Японии понемножку начинают детей к этому готовить — именно там, наверно, в первую очередь, полно этих роботов и всякого такого.
11. Да, это интересно. Есть точка зрения, что отношение к роботам в Японии как-то связано с традиционным для японской культуры анимизмом, с верой в то, что предметы вокруг нас одухотворены. Все-таки европейская и американская культура относятся к роботу скорее как к механизму.
Да, конечно, это вещь.
12. И нам труднее принять робота в роли существа, заботящегося о больном человеке, или в роли воспитателя.
Да-да-да.
13. В традиционных инновационно-технологических форсайтах разговор о будущем строится вокруг рынков, продуктов, которые будут востребованы, технологий, которые эти продукты позволят вывести на рынок, но все время ускользает психология и отношения между людьми. Давайте попытаемся представить себе повседневную жизнь россиян, например, через двадцать лет. Как эта повседневность конструируется в общении, в самопрезентации, в каких-то ежедневных действиях, рассказах о себе? Как это может измениться по сравнению с сегодняшним днем?
Мне кажется, что интерес к психологии повседневности будет расти просто потому, что люди устали от бурь, им хочется какой-то стабильности. Поэтому тяга к каким-то привычным вещам: тарелкам, посуде, способам времяпрепровождения, еще чему-то, — явно заметна. Мне кажется, это будет нарастать.
Плюс к этому совершенно изменится — это я просто уже вижу — способ проведения досуга. Одно время я занималась культурным капиталом и видела, что все меньше и меньше людей, для которых нормой является поход в театр, оперу или консерваторию. Но самое смешное, что людей, которые увлекаются роком или еще чем-то похожим, тоже становится меньше. Так чем же они заняты? А ничем. И это очень опасно в том плане, что голова пустая. То есть для них норма — сидеть и тупо слушать рэп.
Я боюсь того, что у нас пойдет нарастание технологий и нарастание вот этого, характерного для многих обществ, в частности для российского, «я могу ничего не делать». То есть это означает, что за меня этот уберет, этот принесет, этот приготовит, мне выдадут какую-то пайку, а я буду сидеть и непонятно чем заниматься, я не хочу заниматься даже организацией своего досуга. Что там при этом происходит с интеллектом, можно себе представить. Тогда любая перемена, естественно, будет встречаться с агрессией, т.е. никакой тебе транзитивности, никакой...
14. То есть еще большее неприятие неопределенности, выбора?
Да, еще большее неприятие какого-то выбора, вообще каких-то кардинальных изменений, и попытка ухватить тот маленький кусочек стабильности, когда я могу ничего не делать. Мне кажется, что все-таки, так или иначе, наука требует какой-то детерминации. И если всяких естественнонаучных, понятно, нет, то культурная детерминация есть все равно. Если мы ее теряем, в том числе и этническую специфику, то тогда остается именно такое совершенно пустое сидение — ловлю кайф оттого, что вкусно поел, что-то послушал. Но это как раз то, что потом, когда мы это чуть-чуть изменим, может плодить агрессию, а не меняться оно не может.
15. Что будет происходить с тем, как человек репрезентирует себя? Вы писали о том, что происходит переход от поступка к нарративу, как это может сказаться?
Понимаете, с одной стороны, переход к нарративу, к рассказу — это очень позитивная вещь, потому что, для того чтобы хоть что-то о себе рассказать, человек должен хоть что-то про себя понять. Он должен задуматься, он должен это сформулировать. Недаром все-таки любое нарративное повествование — это и социализация, и идентификация, и появление новых смыслов. Но, к сожалению, это опять-таки не всем дано и не всем нравится.
С другой стороны, нарративы затрудняют нам жизнь, потому что люди такого вам о себе расскажут, что потом будет сложно докопаться до реальности, почему я и говорю о методологии разных открытых конструктов, которые должны помогать нам смотреть, что рассказали, что сделали, что написали. Мы не всегда можем отследить реальную идентичность, но даже в виртуальном пространстве мы можем увидеть некоторые вещи, которые дадут нам возможность скомпенсировать наше незнание, — те же аватарки и пр.
16. Виртуальное и реальное сегодня очень сильно переплетены.
Да, да.
17. То есть, по большому счету, по цифровым следам сегодня можно судить даже о реальных действиях человека в повседневной жизни.
Да. Поэтому мне кажется, что не те, кто просто чатится, и даже не те, кто читает чужие посты, а те, кто использует какие-нибудь снэпчаты, должны, чтобы этим овладеть, хоть что-то знать и хоть что-то понять в себе.
Плюс к этому, чем еще хороши для молодежи все эти снэпчаты, — они дают возможность смены декораций. И потом, ты же можешь много чего посмотреть, они же обмениваются в этих снэпах чем угодно. Просто, к сожалению, — опять к нашим баранам — это даже не 60% молодежи, а 25–30.
18. А остальные?
А остальные — так они же и интернетом толком не пользуются, и сетями не очень. И это молодые, про старшее поколение я даже не говорю, хотя оно, кстати, иногда лучше этим занимается, чем молодые.
И в этом плане, если вернуться к методологии, у меня все время в голове идея междисциплинарности, она же очень важна, но у нас ее толком нет. Она сейчас, я посмотрела, худо-бедно где-то немножечко в Европе продвигается, но очень изолированно. Когда-то у нас была такая Государственная академия художественных наук, ее, естественно, в 1927 г. закрыли, всех посадили, Шпета расстреляли — в общем, понятно, чем все это кончилось. Но там была очень интересная идея, когда психологи, философы, культурологи биологи, физиологи того времени работали вместе, плюс тогда были и Эйзенштейн, и Станиславский. Причем они работали именно вместе, пытались разрабатывать какую-то новую теорию нового человека и как с ним обращаться, как его растить, воспитывать.
Это было очень интересно, но, к сожалению, очень недолго и, соответственно, все потом ушло в песок...
19. Любопытно, что и Институт человека долго не просуществовал.
Да. И они тоже пытались все это делать, но, по-моему, просуществовали еще меньше, чем ГАХН.
Без такого комплексного подхода многое очень сложно понять, потому что одна наука, даже такая мощная, как психология, какие-то вещи просто не видит, не понимает, у нее нет инструментов.
20. Если формулировать повестку для такого воображаемого Института человека или междисциплинарного сообщества, какие две, три, может быть, четыре проблемы могли бы быть в фокусе внимания? Какие междисциплинарные задачи можно было бы поставить перед сообществом?
Первое, наверно, это все-таки то, о чем мы говорили, — как с новыми технологиями меняется картина мира, я бы даже сказала, может быть, грубо, мозг человека, что с ним происходит. Это задача, безусловно, междисциплинарная.
Вторая задача — это, тоже грубо, разработка технологии, наверно, такой, как научить людей думать, как научить их брать на себя ответственность, как им привить интерес хотя бы к тому, чтобы иметь какое-то хобби, хотя бы к каким-то элементарным вещам. И тогда мы приходим к тому, что у нас понимается очень прагматично и совково, это психология образования. Но ведь во всем мире она начинает быть все больше и больше востребованной, и мы сейчас переименовали факультет в «Психологию образования», и у нас сразу стали просить контакты, но пока дать им нечего, так как пока еще у меня одни педагоги. Но это очень важно, потому что, если мы будем разрабатывать возможности, как развивать людей, то нужны будут и люди, которые будут это делать.
Еще одна важная междисциплинарная область, которая связана и с технологиями, и с искусством, и с психологией, это как организовать досуг, какую-то культурную среду, куда «посадить» человека, чтобы он все-таки мог получать какие-то интересные стимулы для развития.
21. Мне кажется, что с этой проблемой связана и другая — каким образом помочь человеку понять, что будущее для него перспективно. Сейчас довольно много говорят о феномене шот-термизма, краткосрочной временной ориентации, преимущественно в экономической сфере, где это приводит к очень серьезным потерям. Но ведь, не обращаясь к долгосрочным последствиям наших сегодняшних действий, мы не сможем решить и насущных задач. То есть проблемы глобальных рисков, вызовов, на которые приходится отвечать по крайней мере в горизонте десяти-двадцати лет, не решаются исключительно в нашей сиюминутности, в горизонте одного, максимум трех лет, в котором живут россияне.
Как, на Ваш взгляд, психология может помочь? Что вообще в России можно сделать, чтобы расширить перспективу, горизонт будущего?
Это очень важный вопрос, потому что все мы, конечно же, поставлены внешними условиями в ситуацию, что все надо решать сейчас, быстро. У нас же и правительство не решает никаких стратегических задач — все быстро-быстро, сейчас решим. Одно решили, и тут же сразу следующее наваливается — и это тоже быстро решим. И мы все так или иначе социально ангажированы и, конечно, это мешает увидеть перспективы.
Действительно, даже личностная перспектива, даже зона ближайшего развития, и та куда-то делась. Конечно, есть временная перспектива туда, в настоящее, и только чуть-чуть — в будущее.
Не знаю, мне кажется, нам одним это не решить. Но все-таки должны быть какие-то стратегические задачи, поставленные перед нами. А конкретно — перед российским психологическим сообществом. И задача эта — прежде всего избавиться от идолов, от всех этих икон, которые нам очень мешают, которые заставляют нас все время оглядываться назад. То есть, если большинство наших коллег-психологов наконец поймет, что мы живем в другом мире и что надо каким-то образом прогнозировать, как жить дальше, то тогда мы дадим себе эту временную перспективу. Давайте посмотрим, что есть сейчас, что будет через десять лет, что вообще будет с нашими потомками, как нам быть, что делать.
22. А что можно делать нам самим в сообществе психологов, для того чтобы лучше слышать эти слабые сигналы приближающихся перемен, чтобы заглядывать чуть-чуть дальше?
Во-первых, прежде всего слушать их, потому что многие ведь и слушать не хотят. Во-вторых, наверно, больше как-то анализировать, собирать эмпирику, широкую, опять-таки междисциплинарную, слушать друг друга в разных областях психологии. Мы же даже друг друга не слышим. Тут тебе когнитивисты, тут психология образования, там у нас психогенетика, эти кровь берут, те энцефалограмму смотрят. Но если мы хоть как-то обменяемся данными, может, что-то и еще увидим, то, что не видим внутри нашей норки.
Ну и, между прочим, надо бы почаще на улицу смотреть — тоже неплохо, потому что мы живем в замкнутом мире. К сожалению, когда мы смотрим даже на такие не самые значительные явления, как, например, абитуриенты с глубокой периферии, то видим, что там все совершенно другое, другие ценности, даже межпоколенная трансмиссия проходит совершенно по-другому. А если они задают старые ценности... То есть все, что говорила Маргарет Мид, это прекрасно, только теперь все так смешалось — и в разных регионах, и в разных этнических группах, и даже внутри одной культуры все по-разному.
Если мы на это посмотрим, то, наверно, увидим, как сквозь все это пробиваются слабые сигналы будущего, пробиваются иногда с большим скрипом, иногда их глушат, но они все равно растут из-под асфальта. Просто нужно, мне кажется, слушать друг друга.
23. Как Вам кажется, насколько быстро у нас в российской психологии обновляются знания? Или, пожалуй, давайте не говорить о российской, все-таки наука глобальна — каков в психологическом знании вообще период полураспада, когда, скажем, половина знаний обновляется, сколько лет он составляет?
Сейчас — буквально 3–4 года, очень быстро. Еще лет пять назад, наверно, это было лет 10–15, а сейчас очень быстро, просто лавинообразно.
Я, помню, наблюдала среди своих приятелей-физиков, когда еще все у них было другое, как они намного дальше заглядывали в будущее. Им это было интересно, они дискутировали и видели дальше, чем мы, это точно. А сейчас — нет, по-моему, они стали даже еще более заскорузлыми, чем мы. То есть, наверно, когда нет резкого обновления картины знаний, это как-то тормозит развитие.
24. Наверняка есть какие-то вопросы, которых я не задал, но о которых Вам хотелось бы что-то сказать или, может быть, поставить эти вопросы перед другими участниками этой серии интервью. Какие важные вопросы о будущем нашего общества, о будущем психологии я не задал, а следовало бы?
Мне кажется, что вы охватили в основном весь круг вопросов. Но есть, наверно, даже не столько вопрос, сколько пожелание — давайте слышать друг друга. Знаете, как говорил кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно. То есть чтобы наши разные отрасли и, главное, наши разные школы все-таки начали работать вместе. Без этого мы просто не перешагнем тот барьер, ту стагнацию, в которой, вообще говоря, мы сейчас находимся. Ведь сетевое общество касается и науки. Р. Коллинз говорил о сетевом развитии. Так давайте же построим сеть, мы же сейчас все можем. А когда — тут ленинградская школа, там пермская школа, тут у нас Леонтьев, там у нас еще кто-то... И все мы — школы, и это прекрасно, но вопрос-то, наверно, в том, как преодолеть этот разброс и как выработать какую-то общую стратегию, общий подход, взаимопонимание, наконец.
Источник: сайт ИП РАН
В то время, когда было взято это интервью, Т.Д. Марцинковская возглавляла Институт психологии им. Л.С. Выготского РГГУ. — прим. ред.

























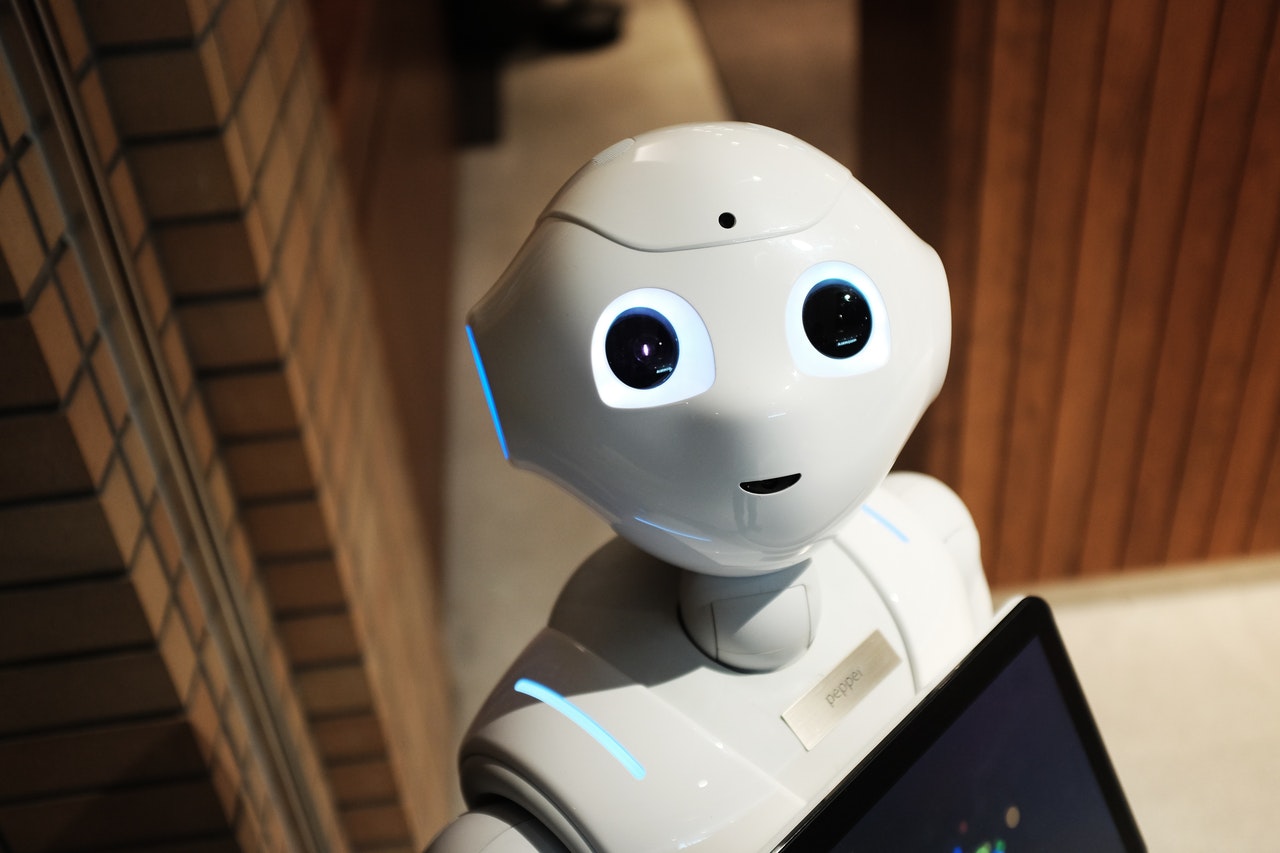









































Прежде всего, хочу поблагодарить Психологическую газету за интересную серию интервью о будущем психологии.
В связи с тем, что в интервью с бывшим (до июля 2022 года) директором Института психологии имени Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) упоминается мое имя, хотела сказать следующее.
1. Я никогда не работала у Т.Д. Марцинковской («у меня здесь преподает»). Директора меняются, а я работаю в Институте психологии им. Л.С. Выготского с его «пренатального» возраста (с 1995 г.).
2. Жаль, что за несколько лет пребывания в должности директора Института психологии им. Л.С. Выготского Т.Д. Марцинковская ни разу не открыла всегда открытые двери моей лекционной аудитории. В этом случае она бы сделала для себя открытие, что «последовательница» теории деятельности «показывает» своим студентам «и то новое, что есть сейчас». Тема «Основные положения общепсихологической теории деятельности» занимает в программе 4-семестрового курса общей психологии всего (к сожалению) 4 лекционных часа.
3. Полагаю, что если для Т.Д. Марцинковской «темой в приоритете» является методология, неплохо было бы ознакомиться с работами одного из уважаемых методологов современной психологии Валерия Викторовича Петухова (1950 - 2003).
В.В. Петухов создал уникальную концепцию целостного курса общей психологии, в центре которого находится человек, но не как «молекула или волна», а как субъект взаимодействия с миром природы, общества, культуры; как личность в широком, в социокультурном и в узком, строгом смысле слова (как субъект принятия самостоятельных и ответственных решений в неопределенной, изменчивой ситуации). Неопределенность — это имманентная характеристика жизни, которая постоянно меняется (иначе это называется смертью, неживой жизнью). Конечно, можно использовать для пересказа мысли А.Н. Леонтьева «живая жизнь — сама реальность» модные слова типа «транзитивность», «вызовы» и прочие, но психологического смысла, тем более принципиальной методологической новизны это, на мой взгляд, не имеет. Обогащение тезауруса и «псизауруса» не есть синонимы. За создание и реализацию методологической концепции целостного курса общей психологии В.В. Петухов был удостоен высшей для преподавателя МГУ награды — Ломоносовской премии (1993). Именно эта методологическая концепция лежит в основе разработанного мною курса общей психологии для студентов Института психологии РГГУ.
В 2003 г. В.В. Петухов создал на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова кафедру «Методологии психологии», ибо именно эта тема была в приоритете не только его размышлений, но всей его жизни. С сентября 2003 г. заведует этой кафедрой декан факультета психологии уважаемый Юрий Петрович Зинченко.
В.В. Петухов оставил нам глубокие, методологически выверенные и теоретически насыщенные тексты. Для формирования психологической культуры их изучают мои студенты (про директоров не знаю), которые понимают, что методология и теория (теории) связаны между собой (и мы раскрываем эти связи), и что это отнюдь не «две разные вещи». Если же читать других авторов некогда, можно найти в интернете и прослушать 54 лекции В.В. Петухова по Общей психологии. В этих лекциях гармонично сочетаются психология, философия, социология и культурология, история, литература и кино, слышно дыхание Института Человека и ГАХН.
Да, согласна с упомянутым в интервью котом Леопольдом: «давайте жить дружно». Для меня это в переводе с кошачьего означает: давайте читать, понимать, ссылаться друг на друга, при этом не изменяя своей науке, не подменяя и не расчленяя ее предмет. Объект можно поворачивать и рассматривать с разных предметных сторон, например, с точки зрения разных наук о человеке. Одна из таких наук — ПСИХОЛОГИЯ. Однако без изучения, осмысления и трансляции профессиональной культуры будущее нашей замечательной науки печально.
, чтобы комментировать