
Одновременно с ускоряющейся тенденцией развития НТП развиваются и различные формы аддиктивного поведения личности. На первых порах исследования данной тематики понятие «зависимости», а в последующем «аддикции», категорически применялось для описания поведения тех людей, которые на регулярной основе используют различного рода химические вещества: алкоголь, никотин, кофеин и др. [14]. На сегодняшний день появляется всё больше и больше новых видов быстрого и компульсивного удовлетворения своих потребностей, структура и эффект от употребления химических наркотиков приобретают всё более сложный специфический характер, но самое страшное — возросла скоротечность привыкания человека к агенту зависимости. Тенденции такой направленности делают вопросы просвещения, профилактики и коррекции аддиктивного поведения весьма актуальными.
Первые исследования в области данного вопроса в отечественной практике стали осуществляться сравнительно недавно, а именно в 20-е гг. ХХ века. Свой вклад в этот период времени внесли такие деятели, как Ю.М. Лисицын, А.С. Шоломович, М.Н. Гернет и др.
По их мнению, агентом зависимости могут выступать компьютерная игра, алкоголь, наркотик, телевизор, сигарета, другой человек и т.д., после употребления которых человек уже не принадлежит себе и становится своего рода собственностью химического вещества, интернет-сети, телевидения или же другого человека [4; 15].
Помимо традиционных и уже известных форм химической аддикции, исследователи всё более часто сталкиваются с «нехимической» формой аддиктивно-компульсивного поведения, например, с зависимостью от азартных игр, гемблингом, интернет-зависимостью, расстройством пищевого стереотипа поведения, созависимыми отношениями, ургентной зависимостью и др.
Отвечая на вопрос «По какой причине человек в современном обществе более предрасположен к депрессивным состояниям и перманентно испытывает тревогу и усталость, чем его более ранние и поздние предшественники?», большое количество авторов в качестве основного мотива обращают внимание на современный цивилизационный парадокс, а именно на повышающийся уровень дезориентации уподавляющей части людей касательно развития в духовной сфере жизнедеятельности, кардинальную неспособность личности позитивно и удовлетворительно отвечать на категории экзистенциального аспекта существования (смысл существования — жизнь — смерть — борьба с одиночеством). В большинстве случаев наши мировоззренческие модели, комплекс смысложизненных ориентаций и поведенческих стратегий являют собой совокупность ошибочных или недостаточно отрефлексированных попыток ответа на такого рода первостепенные категории личности. Некорректный или неполноценный ответ на эти вопросы, а также полное отсутствие у личности какого-либо ответа вообще закономерно детерминируют нарастание внутреннего напряжения, повышенную тревожность и страх смерти. Здесь любая форма аддиктивного поведения, вне зависимости от агента происхождения (химического или нехимического), по факту являет собой присущий образец деструктивного решения экзистенциальных проблем личности и закономерно приводит к трудно корректируемым психическим и духовным изменениям.
Всё это может являться детерминантой к формированию нарушений поведения, так как эти тенденции создают некое социальное напряжение, которое выступает условием для интенсивного появления психологических расстройств и социально опасных форм девиантного поведения (наркомания (F11-F14), суицидальные наклонности, алкоголизм (F10), преступное поведение). Ко всему прочему, стремление к уходу от социально продуктивной деятельности и бесцельное времяпрепровождение создают условия для формирования поведения, которое можно назвать «разрушающим», и приводят к дисфункциональному состоянию личности. В большинстве случаев основой для поведения, которое приводит к саморазрушению, является избегание жизненных проблем и ответственности за них. Уход от реальности посредством вышеперечисленных средств возникает путём фиксации на определённом виде деструктивной деятельности с целью поддержания интенсивных эмоций или путём искусственного изменения своего психического и физиологического состояния с помощью приёма некоторых средств, что приводит к состоянию измененного сознания (ИСС).
Классический психоанализ рассматривает чрезмерное употребление ПАВ как специфический дефект у личности в процессе её психосексуального созревания, который, в свою очередь, приводит человека к постоянной оральной неудовлетворенности и последующей фиксации на данной стадии. Последователи данного подхода, например, С. Даулинг, говорят о том, что «использование химических веществ временно может изменить регрессивные состояния, усиливая защиты Эго, направленные против мощных аффектов, таких как гнев, стыд и депрессия» [6, с. 19].
В транзактном анализе Э. Берна развитие личности в норме предусматривает согласованность между основными транзакциями личности: Взрослый, Ребёнок, Родитель. Опираясь на данное положение, последователи этого подхода считают, что у человека с аддиктивным поведением превалирует одно из «эго-состояний» или же какое-то «эго-состояние» заражает другое. Другие авторы в рамках данного подхода рассматривают аддиктивное поведение как своеобразную психологическую игру. «Игра в транзактном анализе — это форма поведения со скрытым мотивом, при которой один из субъектов получает психологическое или другое преимущество» [3]. «Злоупотребление ПАВ даёт возможность индивиду манипулировать эмоциями и поступками других людей» [14].
А. Адлер полагал, что если существует необходимость понять основные детерминанты поведения человека, в первую очередь необходимо выяснить, в какой сфере своей жизнедеятельности у личности возникает чувство неполноценности и как она его преодолевает, а также какие цели она ставит в процессе преодоления этого чувства. «Феномен аддиктивности с точки зрения индивидуальной психологии — это бегство от реальности, вызванное стремлением человека преодолеть свой комплекс неполноценности» [4, с. 48].
Приверженцы бихевиоризма полагают, что первостепенно на поведение человека воздействуют его социальная обстановка и окружающая среда. Вследствие чего было выдвинуто предположение о том, что мотивы аддиктивного поведения формируются под воздействием на личность других людей и напрямую определяются степенью частоты взаимодействия с ними (С.В. Березин, К.С. Лисецкий).
Согласно концепции В. Франкла, фундаментальной мотивационной силой в людях является стремление к смыслу. Если же человек не видит смысла в чем-то вне себя, выживание для него в экстремальной ситуации бесцельно, бессмысленно и невозможно. Когда стремление к смыслу фрустрировано (чем-то блокировано), возникает состояние экзистенциальной фрустрации и экзистенциального вакуума. Экзистенциальная фрустрация и экзистенциальный вакуум и являются непосредственной причиной зависимого поведения. «Таким образом, в соответствии с экзистенциальной концепцией зависимое поведение возникает потому, что люди подавляют свою духовность и уходят от ответственности за поиск смысла» [8, с. 81].
C позиции идей логотерапии и экзистенциональной психологии, психотерапевту необходимо рассматривать проблему возникновения аддиктивного поведения индивидуально и комплексно в единстве взаимодействия с такими категориями, как особенности и направленность личности, характер ее социальных взаимоотношений, специфика агента зависимости и экзистенциальных установок.
Виктор Франкл в работе «Воля к смыслу» пишет: «Как бы то ни было, человек не избавлен от того, чтобы сталкиваться со своей ограниченностью, которая включает то, что я называю трагической триадой человеческого бытия, а именно, — болью, смертью и виной» [17].
И это определение показывает нам, как можно понять страдание и боль, учитывая и антропологическую модель личности В. Франкла, в которой он описал три неразрывные и находящиеся в сложной взаимной связи измерения: телесное, психическое и духовное. Поэтому человек как Личность не может переживать боль и страдание только на каком-то одном своем уровне. Он вынужден столкнуться с отраженной или трансформированной болью на каждом из этих измерений. И каждое из трех измерений в человеке, встречаясь с болью, говорит ему о возникшей угрозе его бытия Личностью, с одной стороны, о его конечности, с другой — о полноте его присутствия и исполненности в жизни. И ставит перед ним множество вопросов, которые описывает А. Лэнгле в своей статье «Травма и смысл»: «И вот, в бытии, переживаемом таким образом, мы спрашиваем себя: как это выдержать? Можем ли мы оставаться людьми, будучи такими уязвимыми перед судьбой и перед всем, что происходит с нами? Если нам так больно, если кровоточит, саднит и потрясает нас до мозга костей? Как же мы можем при этом оставаться собой? Как можем продолжать чувствовать самих себя, поддерживать с собой отношения? Как можем защищать, уважать и ценить себя, сохранять себе верность? Как можем следовать дорогой своей жизни, надеяться и быть открытыми будущему? Боль вызывает у жертвы специфическое переживание: человек чувствует себя брошенным на произвол судьбы, пассивно страдающим, он видит все в черном цвете. Боль заключает в себе требование. Это наиболее сильный импульс к тому, чтобы предпринять что-то, устранить причины травмы, ликвидировать ущерб и восстановить целостность» [11].
В силу природной низкой витальности человек может переживать жизнь как слишком тяжелую для себя или, не выдерживая предъявленного жизнью страдания, может получить травму, опыт которой не сможет переработать так, чтобы найти в ней ценностный смысл для своей дальнейшей жизни. В результате он приобретает опыт недоверия себе самому и переживает, что в такого рода страданиях не может больше быть, рассчитывать, полагаться на себя и эту на жизнь, наполненную страданиями. М. Бубер говорил, что вера возможна не только по отношению к внешним объектам, для человека она возможна и по отношению к себе самому. Недоверие связано с особым состоянием психики человека, которое он обозначает формулой «не верю, что могу». Доверие к себе существует в диалоге с доверием к миру, и, прогнозируя свое поведение, человек всегда занимает одновременно личностную и социальную позицию, потому что он одновременно обращен и в мир, и в себя самого, осуществляя двойную открытость. Данный подход к категории «личностного доверия» разделяют в своих работах такие авторы, как К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, Ф.Е. Василюк, А. Лэнгле, М.К. Мамардашвили [3; 15; 16].
Опираясь на вышеуказанные положения, мы можем с уверенностью говорить о том, что вопреки достаточно долгому периоду изучения вопросов, касающихся аддиктивности, целостной и однозначной психологической системы понимания и выделения основных детерминант аддиктивного поведения попросту не существует.
По нашему мнению, в реализации максимально эффективной профилактики и коррекции аддиктивного поведения необходимо прибегать к системному подходу в данной деятельности, где основополагающим будет выделение «факторов психологической защиты» и «социально-психофизиологических факторов риска», которые могут возникать при формировании зависимого поведения. Под «социально-психофизиологическими факторами риска» мы понимаем определённые детерминанты, специфика которых предвосхищает возможное злоупотребление ПАВ и формирование закономерностей аддиктивного поведения. Также мы отмечаем, что данное разделение условно, так как данные аспекты жизнедеятельности часто коррелируют между собой и состоят в тесной взаимосвязи. Здесь стоит отметить, что эти же факторы могут выступать как самостоятельные формы борьбы и профилактики аддиктивного поведения при их позитивном и гармоничном развитии и протекании.
Экспериментально-психологическое исследование проводилось в центральном собрании «Анонимные наркоманы» города Москвы. Группу реципиентов составили бывшие зависимые от спайса и других химических наркотиков люди, которые достигли определённого времени ремиссии и за время пребывания в «чистоте» не имели срывов.
Специфика организации групповых собраний схожа по типу психотерапевтических групп, где каждый её участник сообщает, как он столкнулся с проблемой, как с ней боролся, что он чувствовал в период борьбы с различными проявлениями болезни и как принял решение прийти на собрание и поменять свою жизнь.
В общей сумме было опрошено 20 человек, проходивших «Двенадцатишаговую программу».
Для подтверждения исследуемых задач и выявления эффективности был разработан специальный авторский анкета-опросник. В анкете-опроснике реципиенты указывали, благодаря какому виду помощи по программе или её психологической составляющей им получалось достигать ремиссии, продолжительность зависимого поведения, виды и опыт лечения другими средствами. Анкета состояла из 20 вопросов открытого, закрытого и оценочного типов. Анкетирование осуществлялось анонимно, в анкете отмечался только возраст и пол. Возрастной диапазон опрашиваемых реципиентов составил от 23 до 49 лет. Среди них 10 мужчин и 10 женщин. У 100% реципиентов «стаж» употребления составил «5 лет и более».
В ходе организации исследования нами было замечено, что к такого рода собраниям люди, страдающие зависимостью, относятся гораздо серьезнее, чем к альтернативным разновидностям помощи. Участники этих собраний и составили группу реципиентов в экспериментально-психологическом исследовании, в ходе которого мы выясняли, какие методы и составляющие психотерапии являются эффективными для помощи в борьбе с зависимым поведением.
План исследования.
- Разработка анкеты.
- Определение группы испытуемых.
- Проведение анкетирования.
- Анализ полученных данных.
Методы исследования: наблюдение, беседа, анкетирование.
1. В результате исследования было выявлено, что самыми частыми формами борьбы с аддиктивным поведением у реципиентов являлись «Медицинская практика», «Церковная практика», «Самостоятельная попытка бросить» и «Посещение психолога», которые для них оказались эффективными в 10%, 20%, 0% и 35%, соответственно. Несмотря на то, что самым эффективным оказалось «Посещение психолога», оно требует доработки на качественной основе. 10% испытуемых выбрали ответ «Свой вариант» и дали следующие комментарии:
- «Ремиссии продолжались максимум пару месяцев, что говорит о неэффективности перечисленных мной методов».
- «Психолог сказал, что если за 1–2 месяца у меня не получится бросить, то он направит меня к психотерапевту, который выпишет мне кучу таблеток, а если и они не помогут, то меня положат в психушку. Так что в моих интересах бросить как можно быстрее. Мне было 16 лет, страшно и неприятно».
2. Последующий блок вопросов выявлял взаимосвязь основных психологических идей некоторых психологов с идеями, которые эффективно используются в профилактике аддиктивного поведения на «12-шаговой программе». Были полученные следующие среднеарифметические значения.
- Взаимосвязь с психологическими идеями Уильяма Джеймса — 100% реципиентов указали на схожесть идей.
- Взаимосвязь с психологическими идеями Стивена Кови — 76% реципиентов указали на схожесть идей.
- Взаимосвязь с психологическими идеями Альфреда Адлера — 100% реципиентов указали на схожесть идей.
3. В последующем блоке реципиентам было необходимо оценить от 0 до 10 положение о комплексном характере проявления и детерминизма аддиктивного поведения. Используя в подсчёте критерий согласия Пирсона χ2, мы получили следующие оценки.
- Генетические компоненты (влияние генов и зависимых людей в предыдущих поколениях) = 6 баллов.
- Социальные компоненты (микро- и макросреда — семья и менее близкие социальные институты: школа, друзья и т.д.) = 6,6 баллов.
- Психологические составляющие (детские травмы, отношения с семьей, тип воспитания, возрастные кризисы и т.д.) = 7,2 баллов.
Полученные данные в очередной раз подчеркивают комплексный характер формирования и функционирования аддиктивного поведения, где превалирующей составляющей является психологический компонент.
4. В процессе дальнейшей работы со следующим блоком вопросов реципиентам были предоставлены подробные комментарии к каждому психологическому понятию, методу и форме проявления того или иного явления. Реципиентам также необходимо было оценить степень схожести используемых методов, принципов, специфики и форм психологической деятельности с эффективными формами и методами, используемыми на «12-шаговой программе и помогающими им в поддержании ремиссии». Были получены следующие результаты.
- Схожесть принципа «спонсорства», используемого в программе, с принципами взаимодействия психолога с его клиентом, где 1 — «абсолютно не схожи», 10 — «фактически одно и тоже».
- Полное доверие изначально чужому человеку — 7,2 б.
- Полная конфиденциальность — 6,8 б.
- Взаимное уважение и альтруистические намерения по отношению к человеку. Понимание его индивидуальности — 7 б.
- Возможность дальнейшего продуктивного сотрудничества — 8б.
- Степень схожести правил, используемых при групповой психотерапии, с теми, которые наиболее подходят к специфике групп «Анонимных наркоманов»:
- Правило демократичности — 8,3 б.
- Правило анонимности и конфиденциальности — 8,7 б.
- Правило «Здесь и сейчас» — 6,1 б.
- Правило «Конструктивной обратной связи» — 9,2 б.
- Правило «Я-сообщения» — 5,8 б.
- Правило «Искренность и открытость» — 7 б.
- Правило «Активность» — 4 б.
- Правило «Одного микрофона» — 7 б.
- Правило «СТОП» — 1 б.
5. Также мы поинтересовались у испытуемых: «Чего же не хватает психологической практике, чтобы быть более эффективной в помощи преодоления человеком зависимого поведения?» Ответы представлены ниже.
- Реципиент 1: «Идентичного опыта. Бескорыстности. Искреннего участия. Заинтересованности. Некоторым специалистам-психологам не нужно, чтобы проблемы их клиентов решались».
- Реципиент 2: «Я считаю, что только психолог, у которого была зависимость, может понять эту проблему».
- Реципиент 3: «На мой взгляд, обязательным условием при работе зависимого человека с психологом является также прохождение групповой психотерапии».
- Реципиент 4: «На мой взгляд, обязательным условием при работе зависимого человека с психологом является также прохождение групповой психотерапии».
- Реципиент 5: «Милосердия».
- Реципиент 6: «Отношение к зависимости не как к чему-то тщедушному (слабости, пороку и т.д.), а признание индивидуальных факторов, способствующих приходу к зависимости, оценка этого как жизненного периода и акцент внимания на тех позитивных чертах, которые помогут человеку выйти из этого. На начальном этапе я считаю правильным проводить групповую терапию, после — индивидуальную (как на АН). В целом смотреть шире и более тонко на этот вопрос».
- Реципиент 7: «Понимания проблемы изнутри».
В процессе проведения данного эмпирического исследования мы посчитали необходимым дополнить наше исследование ещё одной эмпирической составляющей — «составлением подробного портрета личности с аддиктивным поведением». Результаты исследования представлены ниже.
Испытуемым для составления психологического портрета стал Александр. Мужчина, 27 лет. У Александра высшее образование по специальности «инженер», работает он по профессии в родном городе Ставрополе. Данный психологический портрет был составлен после 4-х бесед, в ходе которых подробно уточнялась специфика организации групповых встреч, системы шагов и спонсорства в программе «Анонимные наркоманы». Беседы в связи с отсутствием возможности очного общения осуществлялись стационарно в виде телефонных звонков. Поэтому о личности можно рассуждать только через призму вербальных проявлений, в частности, экспрессивной речи.
В юности Александр систематически занимался спортивной деятельностью, но раннее употребление алкоголя (в 14 лет) и последующий переход на злоупотребление ПАВ привели к полному отказу от здоровых привычек. В дальнейшем в процессе ремиссии, в частности, на 2–3 году её протекания, он вновь вернулся к систематическим тренировкам, которые, по его словам, помогали достигать «чистоты» и ежедневно находить возможности следовать принципу «здесь и сейчас» в виде создания правильных и позитивных привычек уже сегодня.
Интервью состояло из 10 основных развернутых блоков-вопросов.
- «Эффективность использования психологических и других принципов на программе АН».
- «Понимание наличия у себя трудностей и детерминанты принятия решения».
- «Психологические факторы, помогающие избегать аддиктивного поведения».
- «Характер проявления виктимного поведения».
- «Изменение мышления и восприятия вещей при аддиктивном поведении» и др.
Из чего были сделаны следующие выводы.
- Идея «только сегодня», пропагандируемая в программе «Анонимных наркоманов», схожа с принципом гештальт-психологии «здесь и сейчас» и её постулатами.
- Интервьюируемый отметил возможность избегания срыва при наличии таких психологических составляющих, как «поддержка и отсутствие внутриличностных психологических конфликтов».
- Проблема «зависимости» носит комплексный и индивидуальный характер. На каждый случай проявления у личности зависимого поведения стоит смотреть разносторонне и персонализировано, ориентируясь на психологические детерминанты возникающих деструктивных моделей поведения.
- Само понятие зависимости носит более глубокий характер проявления и представляет собой своего рода потерю субъектности у человека.
- Общность механизмов проявления химической и нехимической аддикции обуславливается не агентом аддикции, а формированием зависимого типа мышления и восприятия этого мира и межличностных отношений путём деструктивного реагирования на них.
- В процессе выздоровления по программе зависимые люди вновь возвращают себе субъектность путём формирования новых эффективных моделей поведения в межличностном и внутриличностном взаимодействии благодаря личностному росту и самоактуализации.
- Ключевыми механизмами, помогающими достигать Александру ремиссии и находить альтернативные позитивные варианты борьбы со своей зависимостью, стали эмпатия, катарсис и уход от своего эгоцентризма. Все это по принципу системного подхода (Людвиг фон Берталанфи, 1952) спровоцировало новую позитивную модель взаимодействия с семьей и менее близким окружением Александра.
В процессе нашего исследования мы сформулировали следующие основные выводы.
- Проблема «зависимости» носит комплексный и индивидуальный характер. На каждый случай проявления у личности зависимого поведения стоит смотреть разносторонне и персонализировано, ориентируясь на психологические детерминанты возникающих деструктивных моделей поведения.
- Общность механизмов проявления химической и нехимической аддикции обуславливается не агентом аддикции, а формированием зависимого типа мышления и восприятия этого мира и межличностных отношений путём деструктивного реагирования на них.
- В процессе выздоровления по программе зависимые люди вновь возвращают себе субъектность путём формирования новых эффективных моделей поведения в межличностном и внутриличностном взаимодействии благодаря личностному росту и самоактуализации.
Проведенное исследование по данной работе показало актуальность проблемы современных аддикций и возможности их синтеза с современными методами психологии и психотерапии с целью их коррекции и помощи в достижении ремиссии.
Нам видится перспективность дальнейшего изучения и исследования данной тематики. Знание специфики протекания современных аддикций, несомненно, даст возможность своевременного реагирования на существующую ситуацию, позволит использовать данные знания для опоры на них в вопросах психопросвещения и правильного использования психологических техник, сформирует правильное отношение к серьёзности вопроса современных аддикций и понимания их как болезни. Также позволит в какой-то мере избежать непонимания между зависимыми людьми и людьми, которые организуют для них сопровождение.
Список литературы
- Бердяев H.A. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. М.: Книга по требованию, 2012. 320 с.
- Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого. М.: ACT; Харьков: Фолио, 2005. 623 с.
- Березин С.В., Лисецкий К.С. Психология ранней наркомании. Самара: Самарский университет, 2000. 64 с.
- Головин С.Ю. Словарь практического психолога. М.: АСТ, Харвест, 1998. 358 с.
- Гулина М.А. Основы индивидуального психологического консультирования. СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2001. 346 с.
- Даулинг С. Психология и лечение зависимого поведения / пер. с англ. Р.Р. Муртазина. М.: Независимая фирма «Класс», 2000. 240 с.
- Зинченко В.П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. М.: Новая школа, 1997. 336 с.
- Змановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения). М.: Академия, 2004. 231 с.
- Карвасарский Б.Д. Психотерапия. СПб: Питер, 2002. 672 с.
- Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия. М.: Академический проект, 2010. 463 с.
- Лэнгле А. С собой и без себя. Практика экзистенциально-аналитической психотерапии. М.: Генезис, 2009. 279 с.
- Попова О. Динамика переживания вины в экзистенциальном анализе // Акмеология. 2012. № 4. С. 109-115.
- Рубинштейн С.Л. Человек и мир. СПб: Питер, 2012. 224 с.
- Руководство по аддиктологии / под ред. проф. В. Д. Менделевича СПб.: Речь, 2007. 768 с.
- Саблина Н.А., Зиник И.Н. Психологическое консультирование и психокоррекция. М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2005. 123 с.
- Тодд Дж., Богарт А. Основы клинической и консультативной психологии. СПб.: Сова; М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 761 с.
- Франкл В. Человек в поисках смысла / пер. с англ. и нем. под ред. Л.Я. Гозмана* и Д.А. Леонтьева. М.: Прогресс, 1990. 368 с.
- Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В., Зыкова М.Н. Психологическое консультирование. М.: Ижица, 2002. 224 с.
- Шадура А. Консультирование как психотерапия или особенности научной терминологии // Школьный психолог. 2002. № 1. Режим доступа: http://psy.1september.ru/ article.php?ID=200200105 (дата обращения: 15.03.2019).
Источник: Родионов А.Н., Маликов В.М. Экзистенциональный подход в решении проблем аддиктивного поведения современного человека // Психологическое благополучие современного человека: Материалы Международной заочной научно-практической конференции, Екатеринбург, 20 марта 2019 года. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, Российское психологическое общество, 2019. С. 245–254.
* Леонид Яковлевич Гозман признан иноагентом (6 мая 2022 года его имя внесено в реестр иностранных средств массовой информации и лиц, выполняющих функции иностранного агента, на сайте Министерства юстиции Российской Федерации) — прим. ред.*



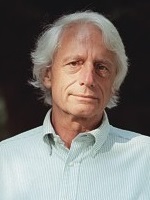



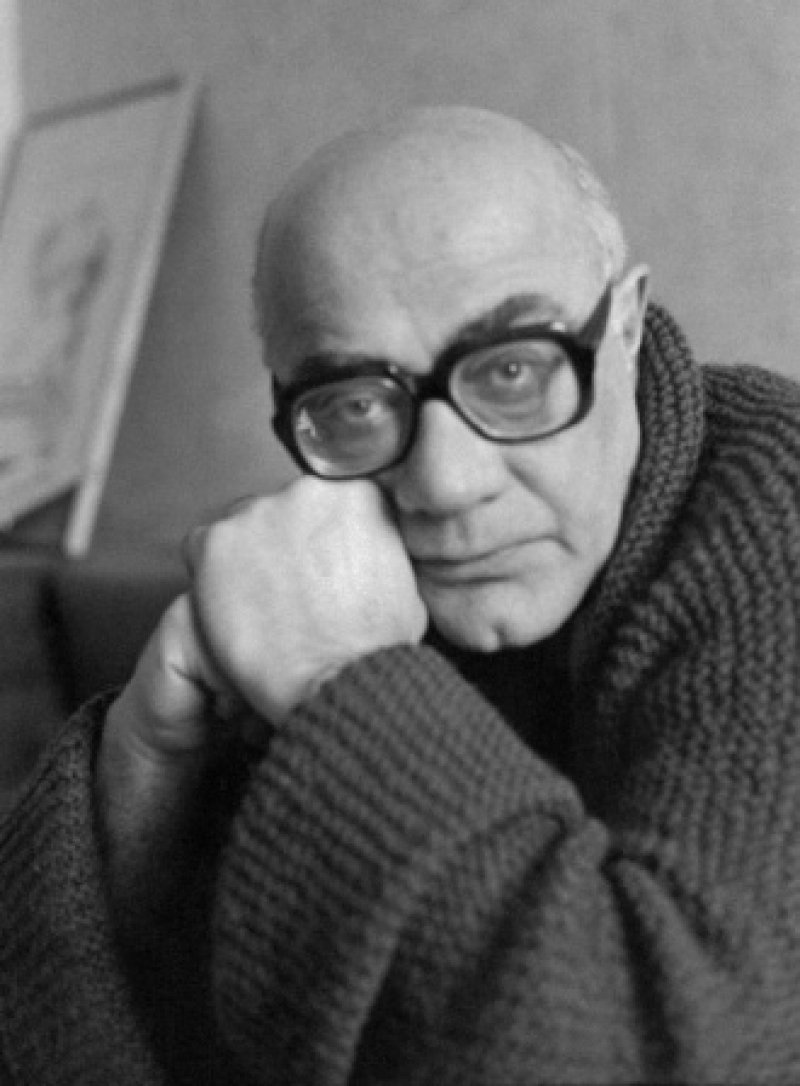

.jpg)




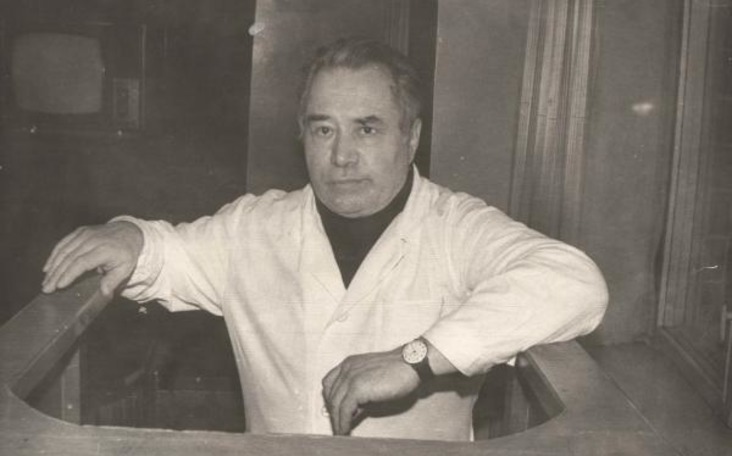






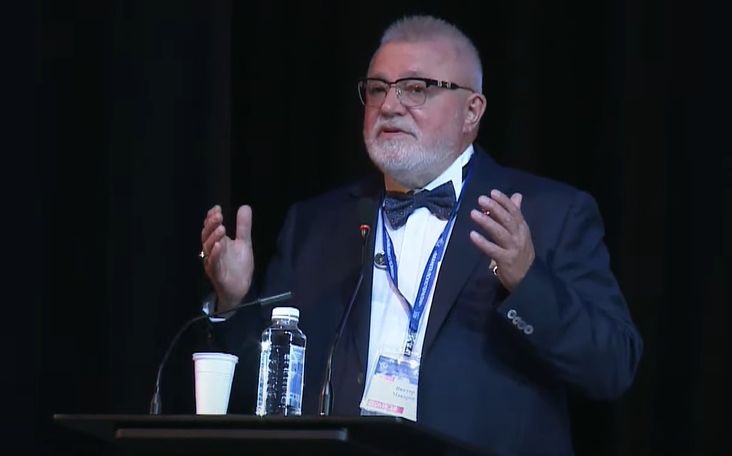









































"Экзистенциальный" и "экзистенциональный" ... что имеют в виду авторы, употребляя то одно, то другое слово?
, чтобы комментировать