
Для каждого преподавателя, читающего курс истории психологии, неизбежно встаёт вопрос о том, с какого исторического периода начинать своё рассмотрение. Для МГУ традиционным стало начинать с Античности, что вполне понятно: это период, когда закладываются базовые понятия и взгляды, которые будут оставаться значимы на протяжении многих веков, порой вплоть до нашего времени. Однако довольно часто, очень кратко упомянув мыслителей-досократиков, всерьёз начинают фактически с Сократа — с мыслителя, которого С. Кьеркегор в своей магистерской диссертации называет первым субъектом, заявившим о себе в истории [10]. Более ранний же период — период, когда человек предстаёт и осмысливается не как субъект в том смысле, что он не обладает сферой «внутреннего» как относительно автономного, — зачастую выпадает из рассмотрения. На наш взгляд, такое выпадение неправомерно — тем более, что сам способ бытия-в-мире, типичный для грека тех времён, которые описывает эпос, ассоциируемый с именем Гомера (независимо от того, существовал ли исторически Гомер как единый собиратель данного эпоса), хотя и утрачивает впоследствии в Европе положение основополагающего и культурообразующего, однако продолжает существовать вплоть до сего дня1. В данной статье мы попытаемся психологически эксплицировать понимание человека, имплицитно присущее гомеровским текстам.
Рассматривая древнегреческого человека, каким он предстаёт у Гомера или, к примеру, в хайдеггеровских лекциях, посвящённых Пармениду [8], мы можем попытаться описать присущий ему способ бытия-в-мире — способ, который является базовым для архаической Греции. Опорной для человека этого способа бытия-в-мире способностью является способность ощущения. Мир для него — это круг явленного, т.е. того, что он видит, слышит, осязает, обоняет, пробует на вкус. Для такого человека свойственно очень полное, живое и непосредственное восприятие окружающего мира. Можно сказать, что такой человек видит всё.
Европейский человек доминирующего сегодня в европейской культуре устроения, при котором опорной является волевая способность в том её понимании, которое начинает разрабатывать уже Максим Исповедник в своём учении о так называемой гномической воле [11], — видит избирательно; видит то, что так или иначе связано с его целеполаганием, с задачами, которые он ставит; тогда как то, что с целеполаганием не связано, может вообще не входить в фокус его внимания и, соответственно, не восприниматься им. Напротив, человек, у которого опорной является способность ощущения, не фильтрует воспринимаемое. Мы можем видеть это не только на примере древних, но и на примере более близких к нам по времени людей такого устроения. Возьмём какой-нибудь всем известный пример, скажем, художника Ивана Шишкина. В его картинах удивительна не столько его живописная техника, сколько то, что Шишкин, рисуя пейзаж, действительно видит каждую иголочку, каждую травинку. Это взгляд, который вмещает окружающее человека сущее, взгляд, который ничего не фильтрует.
При мысли о таком не-фильтрующем взгляде возникает, впрочем, естественный вопрос: а как же такой человек может не потеряться в мире, видя каждую ситуацию как новую? Ведь ни одна ситуация, строго говоря, не повторяется. И если каждое восприятие оказывается предельно полным, если воспринимается всё и ничто не фильтруется сообразно поставленным целям, как тогда человек может выстроить устойчивые отношения с миром? То, как это возможно, очень хорошо описывает антрополог Клод Леви-Строс, один из ведущих представителей французского структурализма [9]. К. Леви-Строс говорит о том, что подобного рода восприятие сопряжено с процедурой упорядочивания — не фильтрации, а упорядочивания. Упорядочивания, которое совершается сообразно тем формам жизни, прежде всего — социальной жизни, к которым человек принадлежит, а также сообразно мифологии, существующей в данном обществе. Этот процесс упорядочивания отличается от процесса — скажем так — конструирования опыта, свойственного для опирающегося на волю новоевропейского человека. К. Леви-Стросс сравнивает восприятие последнего с работой инженера, а восприятие человека, у которого — как мы пытаемся это описать — опорой является ощущение, он сравнивает с работой мастера на все руки, по-французски — «бриколёра». Таких людей он наблюдал, к примеру, в племенах, не имеющих письменности. Бриколаж — это такое мастерство, при котором из подручных материалов делается какая-нибудь поделка. Чем же отличается работа инженера и работа бриколёра, мастера на все руки, а вернее, соотвествующие этим образам способы восприятия?
Во-первых, инженер выстраивает вещь по некоторому проекту; равно как и восприятие классического новоевропейского человека связано с определенной проектностью, с целями, которые он выдвигает, с перспективой, которую он выстраивает. Во-вторых, он работает со стандартизованными деталями. И, наконец, он делает нечто воспроизводимое, применяя определенный метод.
«Мастер на все руки» работает с уникальным, неповторимым материалом; работает не сообразно готовому методу, а скорее проявляя смекалку, и, наконец, делает вещь, совершенно единичную и неповторимую. При этом вещь может быть функциональной, красивой и т.д. Когда восприятие работает подобно тому, как действует мастер на все руки, то уникальное множество ощущаемых, воспринимаемых вещей упорядочивается сообразно тем формам жизни, которые впитал человек, или той мифологии, которую он воспринял. Упорядочивается здесь и теперь. Синхрония здесь будет доминировать над диахронией. Человек не мыслит происходящее как историю, где из прошлого вытекает будущее, а мыслит скорее как — если воспроизвести сравнение самого К. Леви-Стросса — своего рода калейдоскоп, при каждом повороте которого появляется новая конфигурация. Это восприятие, которое упорядочивает здесь и теперь данные вещи. Оно ориентировано на настоящее, а не на прошлое и не на будущее.
При таком способе восприятия случаются порой ошибки, при которых может показаться что такой человек намеренно лжет. Концы с концами не сходятся. Человек рассказывает о каком-то событии, и что-то не стыкуется в плане того, что за чем следовало. А у него просто упорядочивание происшедшего могло произойти так, что временная последовательность нарушилась. Это иногда бывает. Синхрония доминирует над диахронией. Более раннее может поменяться местами с более поздним, потому что такое восприятие не устремлено к выстраиванию последовательной истории событий, где из прошлого вытекает будущее.
И у такого человека, — как было сказано, упорядочивание для него принципиально важно, — есть определенный запрос на форму, есть потребность в том, чтобы жизнь его была оформлена извне, чтобы она была введена в определенные границы. При этом его жизнь, его бытие не просто пассивно фиксировано в этих границах, но всегда к этим границам само от себя выходит и порой их превосходит. Как пример такого превосхождения границ можно вспомнить феномен дионисийства в Древней Греции. Насколько дионисийские празднества неоднозначны, к примеру, в этическом плане. В них есть свежесть жизни, которая омывает все закостеневшие формы, которая буйствует сверх того, в чем человек находится как в стабильном, устоявшемся, привычном ему. А с другой стороны, эта жизнь может не только омывать своим веянием то, что закостенело, но и сносить все устойчивое, что попадается на ее пути. Те же дионисийские процессии могли растерзать попавшегося на пути человека или животное, — это как бы буйство жизни, которое перехлестывает через край и может прорвать, разрушить все, что оформлено, сформировано. Хайдеггер в лекциях о Пармениде очень интересно говорит о дионисийстве [8].
Исходная, «гомеровская» Греция — это Греция, где доминирует такой способ человеческого существования, о котором мы сейчас говорим. И это очень хорошо видно в гомеровских текстах. Читая Гомера, мы можем видеть, что гомеровский человек не является в классическом понимании субъектом, если под субъектом понимать того, у кого есть сфера внутреннего как — хотя бы в некоторой степени — автономного по отношению к внешнему миру. Этот человек не имеет внутреннего, которое было бы автономно относительно мира, в котором он живет, он выведен в мир с удивительной силой и мощью. Мир для него — круг явленного, круг вещей, которые его окружают и которым он принадлежен. И при этом синтонная восприятию такого человека перспектива будет не прямой, — т.е. такой, когда удаляющиеся от нас параллельные прямые сходятся в одной точке, — а обратной. Ведь почему параллельные прямые при прямой перспективе сходятся в одной точке? Взгляд субъекта не досягает дали, чем дальше вещь, чем меньше субъект имеет сил, возможностей её воспринять. Для такого субъекта даль — это нечто бесконечно скудное, потому что ее не разглядеть, это нечто такое, на что силы его взгляда не хватает.
Для грека же, у которого опорной является способность ощущения, мир дан, напротив, так, что скорее не человек смотрит на мир и на вещь, а вещь выходит навстречу человеку. Даль при этом бесконечно богата, избыточна; из бесконечно богатой, бесконечно мощной, исполненной жизни дали к человеку выходит вещь, входя в круг явленных вещей, доступных его взгляду. Вещи выходят из избыточно богатой дали к человеку.
Итак, греческому взгляду присуща перспектива, обратная по отношению к той, которая именуется у нас прямой. И при этом у гомеровского грека нет проблемы отчуждения от тела. С проблемой такого отчуждения современные европейцы и американцы сталкиваются на каждом шагу; пытаются заниматься различными телесно-ориентированными практиками, потому что хотят преодолеть отчуждение от телесности, своего рода забвение тела. У гомеровского грека этого нет и в помине. Если мы почитаем Гомера, мы увидим, что там все человеческие проявления очень живописны и телесны. Герой может рвать на себе волосы, кататься в ярости по земле, и даже описание его сердца пластично и телесно: сердце может таять, сжаться от страха, оно может лаять от гнева, как собака. Мы видим очень телесные образы и очень телесное проживание ситуации, эмоции. Такой человек не отчужден от своего тела. Ведь опорной является здесь способность ощущать; но чем мы ощущаем? Глазами, ушами, носом, языком. Это очень телесная вещь — наши ощущения. Тело не может быть от них отчуждено.
У Гомера мы обнаруживаем и ещё одну удивительную для нас как наследников более поздней культуры вещь. Мы видим, что когда он описывает процессы, которые мы относим к нашей психике или душе, он описывает их как процессы телесные. Более того, душа без тела — она все-таки скорее некая тень. А что значит тень? Тень — это нечто вторичное по отношению к тому, что эту тень отбрасывает. Нам привычно называть душу тенью, эдак на греческий манер, но мы часто не задумываемся, тенью чего тогда является душа. Тенью тела! Тело является основным. Душа — это некий жизненный принцип, который, собственно, без тела, когда тело сгорело на погребальном костре, — не может даже помнить свою жизнь. У Гомера встречаются ситуации, когда герои в Аиде помнят жизнь, но это, по всей видимости, скорее след еще более архаичных верований, след того времени, когда у греков существовал обычный для архаических сообществ культ мертвых. Считалось, что умершие могут участвовать в жизни живых, покровительствовать потомкам, мстить врагам и так далее. И загадочным образом, — потому что свидетельств, которые объясняли бы это достоверно, нет, — на каком-то этапе появляется обычай, призванный, по всей видимости, полностью рассечь мир живых и мир мертвых: обычай сжигать тело на погребальном костре. Здесь прослеживается следующая вещь. Греки того времени считают, что до тех пор, пока тело — мертвое тело — сохраняется, душа умершего еще как бы соприсутствует каким-то невидимым образом с живыми, она еще помнит свою жизнь, она еще не ушла абсолютно в то место, что именуется Аидом, то есть — если следовать более поздним попыткам указать семантику этого слова — «безвидным» (а-эйдос); местом, где все видимое ушло, исчезло. Когда тело сгорает на погребальном костре, душа, как считается, уходит из этого мира, переходит через Лету, реку забвения, пьет от летейских вод, забывая свою жизнь — почему? Потому что связь с этим миром, с этой жизнью, которую она проживала здесь, — эта связь строилась через тело. У душ самих по себе нет ни памяти, ни психики. С этим связан мифологический сюжет, когда герой попадает в загробный мир и для того, чтобы побудить души вспомнить, должен напоить их кровью, которая, с одной стороны, очень телесный компонент, с другой же — очень тесно связана с жизнью.
Действительно, если задуматься над тем, что, по Гомеру, в человеке действует, мыслит, желает, помнит, радуется или возмущается, — то, скорее, следует ответить, что это делает тело, нежели что это делает душа. То, что мы сейчас называем органами психики и психическими функциями, мыслится как телесные и как локализованные прежде всего в области человеческой груди. Даже и ум, мышление — у Гомера тесно связанное с дыханием — никак не привязано в гомеровских текстах к голове. Грудь. Сердце и легкие. Иногда говорят о диафрагме, переводя так слово френос (φπήν, φπενόρ), однако мы считаем более обоснованной позицию Р. Онианса [7], который считает, что это слово приобрело значение «диафрагма» позже, а в гомеровских текстах означает лёгкие. Сердце и легкие выступают у Гомера как два органа того, что мы называем душевной жизнью, что Гомер бы никогда так не назвал. Сердце — это орган непосредственной реакции человека на происходящее, того, что можно назвать эмоциональной жизнью, причём в полном согласии с семантикой слова «эмоция». Motio на латыни означает движение. Эмоцио — это некое душевное движение, возникающее в ответ на то, что человека затронуло, это отклик, и вот этот отклик связан у Гомера с сердцем. Сердце — активный орган, сердце радуется, плачет, тешится, смеется, тает от страха, лает подобно собаке, если человек возмущен. Эти образы очень пластичны, очень живы. И иногда в сердце человек питает какую-то мысль, но эта мысль всегда имеет очень сильную эмоциональную окрашенность. Одиссей, видя дворец Алкиноя, размышляет в своем сердце о великолепии этого дворца, испытывая восхищение. Ахилл, обиженный Агамемноном, питает в сердце мысли об отмщении, справедливости, о том, чтобы ему вернули трофеи, вернули ту прекрасную пленницу, которую он захватил в бою. А другой орган — легкие. Если сердце реагирует эмоционально на происходящее, то с лёгкими связано запечатление и осознание человеком определенных вещей. В «Иллиаде» встречаются такие выражения: «Я скажу тебе слово, а ты запечатлей его в своих “френос” — легких». Слово запечатлевается не в мозгу, до мысли о мозге как связанном с мышлением дело дойдет позже — мозги у Гомера если фигурируют, то исключительно в бою, как что-то, что растекается, когда пробили череп, и т.п.
Указанная связь запечатления с дыханием, в принципе, не является чем-то совершенно недоступным нашему пониманию. Когда мы сосредоточены, когда мы внимательно слушаем и стараемся уловить, запомнить каждое слово, которое нам говорится, наше дыхание становится другим, сосредоточенным, оно действительно изменяется. Удивительно, что Гомер без каких-то специальных исследований, как нечто само собой разумеющееся ловит этот момент, при том, что у греков не было разработано таких дыхательных техник, как, например, на Востоке.
Второй момент, который связан у Гомера с легкими, это вдохновение, которое мыслится как получаемое от богов. Обычно это момент связан, например, с боем, когда воин бьётся, выбиваясь из сил; фиксируемое здесь явление, по-видимому, соответствует тому, что сегодня спортсмены иногда называют «вторым дыханием». Но современный человек с его количественно ориентированным мышлением описывает это изменение как просто увеличение количества сил, позволяющее ему более эффективно делать то, что он делает. Для грека это перемена не количественная, а качественная. Скажем, когда Афина вдыхает мужество и дерзновение в грудь героя, и он с новой силой бросается в бой, это изменение качественно меняет его восприятие ситуации. Когда он изнемогал, он видел вокруг себя одолевающих его врагов; видел, сколь близка погибель, и собирал последние силы, чтобы продолжать сражаться; но вот теперь, когда сила и ярость вскипают в его груди, перед ним открывается поле новых дерзновенных подвигов.
То, куда боги вкладывают вдохновение, это остаточный воздух, всегда присутствующий в лёгких и пропитанный парами крови, считающейся живоносным началом. Интересно, что этот остаточный воздух обозначается словом «тюмос» (ϑςμόρ) — тем самым, которому у Платона соответствует гневная часть души. Примечательно, что здесь это начало оказывается совершенно телесным.
Также и ум, нус (νοςρ), мыслится у Гомера в неразрывной связи с телом. Нус связан с воздухом, участвующим в воздухообмене, и с такой вещью, как ритмика дыхания. Ум при этом неразрывно связан с индивидуальным складом человека. У Одиссея нус хитроумен, у Приама осторожен, у пастухов Одиссея простодушен. И при этом ум как способность видеть нечто в этом мире, упорядочивать определенным образом, понимать ситуацию, тесно связан с тем, как дышит человек. И это тоже по-своему понятно, ведь в дыхании, в его индивидуальных характеристиках являет себя способ телесного присутствия в мире, а значит, способ восприятия и понимания мира, которым наделён данный человек.
Мы видим, что гомеровский человек не отчуждён от тела, что он мощно присутствует в мире во всей своей телесности. И при этом он красив, прекрасен, потому что его присутствие имеет чеканную, очень пластичную, очень сильную форму. Форму, которую дает человеку воспитание, пайдейя. Гомеровский герой — аристократ, воин (описания неаристократов у Гомера мы почти не находим); аристократ, который не просто по праву рождения гордится своим благородством, а должен постоянно это благородство отстаивать, утверждать: в военное время — в боях, во времена перемирия и спокойное время — в спортивных состязаниях. Очень важно здесь то, что подтверждение своей принадлежности аристократии, подтверждение соответствия аристократической форме жизни он должен получать от других людей тоже благородного сословия. Знаком такого подтверждения служат трофеи, получаемые в бою или на состязании. Получая свидетельство принадлежности к благородному сословию, человек вместе с тем получает подтверждение того, что он может воспринять на себя форму жизни благородного человека, что он должен и призван жить в соответствии с этой формой. И если вдруг возникает диссонанс, состоящий в том, что человек совершает некий подвиг, который отвечает древнегреческому пониманию благородства как силы, как мощи присутствия в настоящем и действия в нем, но при этом ему отказано в подтверждении его благородства, — такой диссонанс оказывается крайне сокрушительным. Порой это ведет к даже прямому безумию, поскольку человек оказывается как бы потерян, ему оказывается непонятно, кто он, какую форму должна тогда принять его жизнь. Он оказывается отторгнут от чеканной формы жизни благородного сословия, которую он может воспринять на себя в силу подтверждённой принадлежности этому сословию.
История Аякса — это жёсткое и выразительное повествование о том, что может здесь случиться в крайнем случае. Аякс, у которого Одиссей хитростью уводит причитающийся ему трофей, сходит с ума. В безумии бросается он на меч и погибает, как бы кончая с собой, при том, что, конечно, это не осознанное, продуманное самоубийство: это безумие мечущегося человека, уже не знающего, как ему жить. История Аякса выразительно показывает то, насколько гомеровский человек нуждается в том, чтобы его жизни была придана чеканная форма, в которой он был бы утвержден и укоренен. При этом форма должна быть достаточно адекватной ему. Если такого человека загнать в очень жесткие рамки, перегнуть — он и их воспримет и будет их терпеть и нести, но у него разовьется депрессивное состояние, которое легко может вылиться в агрессию, так что агрессия может быть здесь знаком депрессии. Такой выход депрессии в виде агрессии мы видим и в более поздней истории. Скажем, какие-нибудь крестьянские бунты, возникающие после долгих лет жестокого притеснения, когда долгое время люди живут в очень жёстких рамках и терпят, потому что других рамок им не дано, а рамки им нужны, им нужна форма.
Итак, читая Гомера, мы видим вещи, в психологическом плане очень интересные. Мы видим описание определённого способа бытия-в-мире; и в то же время, мы видим, что психологическая мысль о человеке начинается с понимания человека как существа телесного. Весь дальнейший исторический путь психологии (хотя и с очень весомыми исключениями) во многом будет состоять в том, что душевную жизнь (начиная уже с Пифагора, жившего в VI веке до н.э.) будут выделять, обособлять от телесной, утверждать как что-то самостоятельное по отношению к телу. Это приведёт в итоге к тому, что психология окажется очень во многом не только «психологией без души», как ее порой характеризуют, но и психологией без тела.
А с другой стороны, необходимость осмысления психики как не только чего-то сугубо внутреннего и бестелесного, а напротив, как телесно существующей реальности, все острее осознаётся в психологии, особенно — в области психологической практики. Далеко не случайно появление среди психологических практик так называемой телесно-ориентированной терапии. Этой терапии, на наш взгляд, очень не хватает строгого языка. Язык здесь нередко заимствуют из восточных практик, однако некритическое употребление этого языка для описания явлений европейской и американской жизни ведёт зачастую к сильным смысловым аберрациям, к нерефлектируемому перетолкованию понятий вплоть до переворачивания их смысла. Здесь будет очень сильная нехватка языка для того, чтобы описать то, с чем имеет дело терапевт, который как бы пытается через это работать.
В то же время, в ХХ веке были очень интересные попытки разработать язык, способный схватить единство психического и телесного. Прежде всего, я бы вспомнил здесь Мориса Мерло-Понти — философа, очень тонко разбиравшегося в психологии, очень хорошо знавшего не просто основные концепции психологов, но и психологические эксперименты и исследования, читавшего эту литературу, адресовавшегося к ней в своих философских работах [6]. Однако собственно в психологии, а не в философии достигнутое в этом отношении М. Мерло-Понти и другими философами ещё не освоено.
Выходит, что то, с чего в истории психологии всё начиналось: понимание телесности психического, — сегодня составляет продуктивную перспективу развития психологической науки и является чем-то таким, к чему важно будет прийти уже по-новому, изнутри совершенно иной ситуации.
1 Подробнее проблематика выделения трёх базовых способов бытия-в-мире, каждому из которых соответствует определённая опорная способность, разрабатывается нами в серии совместных статей, опубликованных в журнале «Вопросы психологии» [1–5].
Список литературы/других источников
- Ковалевская О.Б., Лызлов А.В., Серавина О.Ф. Тоска как ядерный аффект: опыт структурно-психологического анализа // Вопросы психологии. 2012. №5. С. 62–72.
- Лызлов А.В., Ковалевская О.Б., Серавина О.Ф. Апатия как ядерный аффект: опыт структурно-психологического анализа // Вопросы психологии. 2013. №2.
- Лызлов А.В., Серавина О.Ф., Ковалевская О.Б. Аффективность как структурообразующая основа антропологических пространств: философия, психология, психиатрия // Вопросы психологии. 2010. №3. С. 65–74.
- Лызлов А.В., Серавина О.Ф., Ковалевская О.Б. Феноменология восприятия и аффективность // Вопросы психологии. 2011. №2. С. 101–111.
- Лызлов А.В., Серавина О.Ф., Ковалевская О.Б. Тревога как ядерный аффект // Вопросы психологии. 2011. №4. С. 66–77
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб: Ювента; Наука, 1999.
- Онианс Р. На коленях богов. М.: Прогресс-Традиция, 1999.
- Хайдеггер М. Парменид. СПб: Владимир Даль, 2009.
- Энафф М. Клод Леви-Строс и структурная антропология. СПб: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2010.
- Kierkegaard S. Om Begrebet Ironie med stadigt Hensyn til Sokrates. [Электронный ресурс] URL: http://sks.dk/BI/txt.xml (дата обращения: 22.04.2015).
- Μάξιμος ο Ομολογητής Απαντα // Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca. V. 91. Paris: J.-P. Migne Editorem, 1863.
Источник: Лызлов А.В. Гомеровский человек: психология в обратной перспективе // Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП. 2015. №1(5). С. 96–102.
Фото: https://psy-rpu.ru/


.jpg)

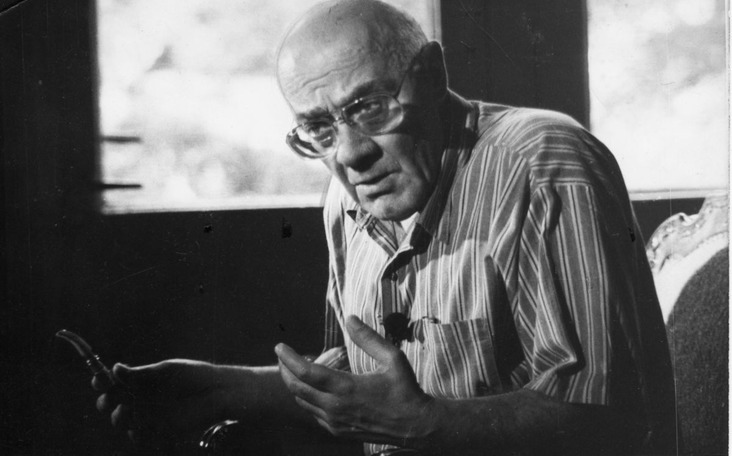



















































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать