
Психолог Эдит Эва Эгер была ученицей Карла Роджерса, наблюдала работу Мартина Селигмана и Альберта Эллиса. Переписывалась с основателем логотерапии Виктором Франклом. Дружба с Франклом была очень важна для Эдит Эгер, потому что оба пережили страшное – заключение в фашистских концентрационных лагерях. Многие годы она пыталась осознать травматический опыт и исцелить душевные раны. Она нашла в себе силы вернуться в Аушвиц, в котором страдала, где погибли ее родные. И написала книгу «Выбор» (издательство «Манн, Иванов и Фербер») — о долгом пути к исцелению. О своей работе психотерапевта. И о выборе, который стоит перед каждым человеком в его мирной жизни.
В книге причудливо сочетаются реалистичность, с которой описаны жуткие события военного времени, и удивительная способность автора, находясь в тяжелейшей ситуации, как бы воспарять над ней и оттуда каким-то нездешним, надмирным зрением увидеть – жизнь, ресурс, силу, опору, позволяющую удержаться над бездной.
Эдит Эгер родилась в Словакии в еврейской семье, в которой было трое одаренных дочерей: ее сестры играли на пианино и на скрипке, а Эдит занималась танцами и гимнастикой, мечтая участвовать в Олимпийских играх. Она пишет о том, что столкнулась с антисемитизмом еще до войны: «Антисемитизм изобрели не нацисты. Пока я росла, до мозга костей пропиталась ощущением собственной неполноценности и верой в благо ассимиляции — для своей же безопасности. Надежнее было не афишировать, что ты еврейка, лучше слиться с толпой и не выделяться».
Стремление ассимилироваться не спасло: в город Кошице пришли фашисты и семья Эдит Эгер оказалась в поезде, отправляющемся в неизвестность. Поезд прибыл в Аушвиц, сначала увели отца, потом Эдит и ее сестра Магда навсегда расстались с матерью – нацист Йозеф Менгеле отправил ее и всех женщин старше 40 лет в газовую камеру. «Магда не сводит глаз с трубы на крыше здания, куда вошла наша мама. «Душа бессмертна», — говорит она. У сестры находятся слова утешения. Но у меня шок. Я в оцепенении. Я не могу думать обо всем непостижимом, что происходит, что уже произошло. Не могу представить, как мою маму поглощает огонь. Не до конца осознаю, что ее нет. Я не задаюсь вопросом «за что?». Я даже не могу предаться горю. Не сейчас. Мне придется быть предельно внимательной, чтобы выжить в следующую минуту, прожить еще один вздох. Я выживу, если моя сестра со мной. Я выживу, привязавшись к ней, будто ее тень. Нас прогоняют через тихие, но гулкие душевые. У нас отнимают наши волосы. Мы стоим на улице, стриженые и голые, ожидая, когда нам выдадут форму…». Когда сестра спрашивает, как она выглядит теперь, Эдит интуитивно понимает, что ответить нужно правду, но ту, которая не ранит: «"— Твои глаза, — говорю я сестре, — они такие красивые! Я никогда не обращала на них внимания, пока их прикрывали волосы". Это первый раз, когда я поняла, что у нас есть выбор: обращать внимание на то, что мы потеряли, или на то, что все еще имеем».
Изощренный убийца и ценитель искусств Йозеф Менгеле по вечерам искал в бараках талантливых заключенных для своих развлечений. Он приказал Эдит танцевать. «Он дает знак музыкантам, чтобы начинали играть. Я слышу знакомое вступление из вальса «На прекрасном голубом Дунае», проникающее в темную, душную комнату. Менгеле таращит на меня глаза. Мне повезло. Я знаю все связки из «Голубого Дуная» и могу танцевать его во сне. Но мои руки и ноги отяжелели, как в кошмарном сне, когда ты в опасности, но не можешь убежать. «Танцуй!» — командует он снова, и я чувствую, как мое тело начинает двигаться.
Сначала высокий бросок ноги. Затем пируэт и поворот. Шпагаты. И наверх. Пока я делаю шаги, изгибаюсь и кручусь, я слышу, как Менгеле разговаривает со своим помощником. Он не отрывает от меня глаз, но не оставляет свои обязанности, пока смотрит. Его голос слышно сквозь музыку. С другим офицером он обсуждает, кого из сотни девушек убить следующей. Если я оступлюсь, если сделаю что-то, что ему не понравится, я могу быть следующей. Я танцую. Танцую. Танцую в аду. Невыносимо смотреть на палача, решающего наши судьбы. Я закрываю глаза.
Я сосредоточиваюсь на танце, на годах тренировки — каждая линия и изгиб моего тела будто слоги в стихах, и тело рассказывает историю: девушка появляется в танце. Она кружится в волнении и предвкушении. Затем замирает в раздумье и созерцании. Что случится в следующие несколько часов? Кого она встретит? Поворачивается к фонтану, вскидывает руки вверх, потом разбрасывает их в стороны, как бы обнимая сцену. Она наклоняется, чтобы нарвать цветов, по одному кидает их своим почитателям и знакомым из публики, бросает их людям в толпу как символ любви. Я слышу, как нарастает громкость скрипок. Сердце колотится. В укромной темноте внутри меня снова всплывают слова матери, как будто она здесь, в этой голой комнате, шепчет сквозь музыку: «Просто запомни: никто не отнимет то, что у тебя в голове». Доктор Менгеле, мои заморенные голодом до изнеможения соседки по баракам, непокорные, которые выживут, и те, кто скоро умрет, даже моя любимая сестра — все они исчезают; единственный существующий мир — в моей голове. «Голубой Дунай» затихает, и теперь я слышу «Ромео и Джульетту» Чайковского. Пол барака становится сценой Венгерского оперного театра. Я танцую для моих поклонников, сидящих в зале. Я танцую в ярком свете горящих софитов. Для моего возлюбленного Ромео, который поднимает меня высоко над сценой. Танцую ради любви. Танцую, чтобы жить.
Во время танца мне открывается мудрость, которую я никогда не забуду. Неизвестно, что за чудо благодати делает возможным это озарение. Оно не раз спасет мне жизнь, даже когда кошмар закончится. Я увидела, что доктор Менгеле, матерый убийца, только сегодня утром уничтоживший мою мать, более жалок, чем я. Я свободна в своем созидании; ему этого никогда не добиться. Ему придется жить с тем, что он сделал. Он больший узник, чем я».
Сестры терпели лишения в Аушвице, затем их отправили к лагерю Маутхаузен: «Это мужской лагерь у каменоломни, где узников заставляют колоть и перетаскивать гранит, который будет использован во время перестройки города гитлеровской мечты, обновленной столицы Германии — нового Берлина. Я не вижу ничего, кроме лестницы и мертвых тел. Лестница из белого камня высится над нами, уходя высоко-высоко наверх, по ней как будто можно дойти до неба. Тела, сваленные в кучи, повсюду. Они лежат искривленные, с раскинутыми конечностями — будто куски сломанного забора. Скелетообразные, обезображенные, спутанные, они почти утратили человеческие очертания…».
Потом узников погнали к лагерю Гунскирхен. Это филиал Маутхаузена: несколько построек в болотистом лесу — лагерь, который рассчитан на несколько сотен подневольных работников и в который были согнаны восемнадцать тысяч. «Здесь, в аду, я вижу, как человек ест человечину. Способна ли я на такое? Могла бы я, для спасения собственной жизни, прильнуть ртом к коже, обвисшей на костях умершего человека, и начать жевать?… Я не смогу этого сделать… Буду есть траву. Из этих травинок я выберу вот эту. Займу свой разум выбором. Одна травинка или другая? Вот что значит выбирать… Я совсем теряю чувство времени. Часто засыпаю. Даже когда не сплю, с трудом пытаюсь оставаться в сознании…».
Эдит Эгер и ее сестру спасли американские солдаты.
Она смогла выйти замуж, эмигрировала в Америку, стала изучать психологию и работать с клиентами, но долго не находила душевного покоя: «Репереживания сохраняются, иногда они накрывают, даже когда я за рулем. Я вижу стоящего на обочине полицейского в форме — и туман сразу застилает глаза, состояние близко к обморочному. Я не знаю, как называется подобное самочувствие, еще не понимаю, что это физиологическое проявление моего горя, с которым я так и не разобралась …».
Работая с клиентами, Эдит Эгер прислушивалась к голосу интуиции и всегда старалась понять человека, который оказывался перед ней. Однажды к ней направили 14-летнего мальчика, который кричал о ненависти к евреям и желании их убивать. Внутренний голос подсказал ей: «Найди в себе фанатика». Найди такую свою ипостась, которая осуждает, навешивает ярлыки, отрицает права другой личности, умаляет ценность другой человеческой жизни.
Мальчик продолжает разглагольствовать об упадке этнической чистоты американцев. Я дрожу от негодования и борюсь с желанием погрозить ему пальцем, поднести к носу кулак и заставить отвечать за его ненависть. При этом я сама не несу никакой ответственности за собственную. Не этот мальчик убивал моих родителей. Лишив его своей любви, я не одолею его предрассудки.
Я молю о возможности испытать его любовью. Вспоминаю все известные мне примеры безусловной любви. Я думаю о Корри тен Бом — она праведник мира. Вместе с семьей сопротивлялась гитлеровской пропаганде и скрывала у себя дома евреев. Корри спасла сотни человек, в итоге оказалась в концлагере. Ее сестра тоже — она угасла на руках Корри. Из-за канцелярской ошибки Корри отпустили за день до того, как все заключенные Равенсбрюка были казнены. Через несколько лет после войны она встретила одного из самых злобных охранников этого концлагеря, который был непосредственным виновником смерти ее сестры. Она могла проклясть его, пожелать ему смерти. Но она помолилась, чтобы ей даровали силу прощения, и взяла его руки в свои. Корри говорит, что в тот миг, когда она, бывшая узница, сжала руки бывшего тюремщика, она ощутила самую чистую и глубокую любовь. Я пытаюсь найти это чувство в себе, отыскать в своем сердце сострадание, наполнить взгляд добротой самой высокой пробы. Я думаю, может ли быть так, что этот мальчик-расист отправлен судом ко мне по воле судьбы, поскольку я с ним лучше разберусь в практике безусловной любви. Какие возможности есть у меня на этот момент? Какой выбор мне надо сделать в эту секунду, чтобы найти любовь и прощение?
Например, я могу полюбить этого мальчика только ради него самого, потому что он есть, вот такой неповторимый, в нашей жизни. Могу полюбить, наконец, ради общих гуманитарных представлений. Более того, я позволю ему говорить все, что он захочет, он может испытывать любые чувства — без страха, что его осудят. Вспоминаю немецкую семью, жившую какое-то время на военной базе Форт-Блисс: маленькая девочка забиралась ко мне на колени и называла меня oма — на немецком это означает «бабушка». Тот немецкий ребенок был послан мне как маленькое благословение, как прозвучавший через десятилетия ответ на мои полубредовые мысли, что немецкие дети, плевавшие в заключенных, когда мы брели через немецкие города, в один прекрасный день поймут, что им не нужно меня ненавидеть. В моей жизни такой день наступил. Однажды я прочитала в журнальной статье, что большинство современных американских расистов в возрасте до десяти лет лишились одного из родителей. Это потерянные дети, у которых явная проблема с самоидентификацией, которые ищут способ почувствовать себя сильными и стать социально значимыми людьми.
Вспомнив эту статистическую выкладку, я беру себя в руки и смотрю на этого мальчика с такой любовью, на какую только способна. Говорю ему свои заветные три слова: «Расскажи мне больше…» И не произношу в тот первый сеанс ни одного другого слова. Только слушаю. Сочувствую. Он так похож на меня послевоенную. Мы оба потеряли родителей: его — просто пренебрегли своим родительским долгом и отказались от мальчика, мои — погибли. Мы оба относимся к себе как к порченному товару.
Отказавшись от своих категорических суждений о нем, отступив от желания заставить его быть кем-то иным или верить во что-то иное, я сразу увидела его уязвимость, его тоску по любви и участию. Позволив себе, преодолевая собственные страхи и гнев, принять и полюбить этого мальчика, я смогла дать ему то, чего коричневая футболка и высокие ботинки дать не могли, — подлинный образ его собственной ценности. В тот день, когда он покинул мой кабинет, он ничего не знал о моей истории, но понял, что можно транслировать не только ненависть и предубеждения. Мальчик больше не говорил об убийствах. У него оказалась приятная мягкая улыбка. А я, в свою очередь, взяла на себя ответственность не распалять вражду и не бросаться обвинениями. Я не стала отдавать дань ненависти и делать вывод, что мальчик мне не по силам.
Теперь, накануне моего возвращения в концлагерь, я напоминаю себе, что в каждом из нас живут и Адольф Гитлер, и Корри тен Бом. В нас заложена способность любить и способность ненавидеть. К кому из них мы потянемся — к своему внутреннему Гитлеру или своей внутренней Корри — зависит от нас...».






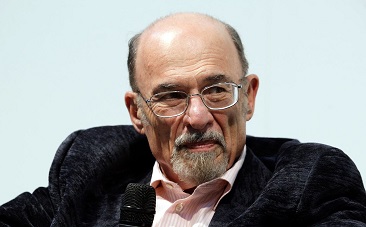


















































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать