
Гита Львовна Выгодская (1925—2010) — психолог и дефектолог, кандидат психологических наук, научный сотрудник НИИ дефектологии, посвятила жизнь восстановлению наследия cвоего отца; её дочь — Елена Евгеньевна Кравцова, доктор психологических наук, директор Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ.
«Мне хотелось написать о своем отце правдиво, объективно, — признается она в книге “Лев Семенович Выготский. Жизнь. Деятельность. Штрихи к портрету” (1996). — А это предполагает, что надо рассказать не только о положительных сторонах его личности, но также и о том, что может характеризовать его с негативной стороны. Но сколько я ни силилась, я не могла воскресить в памяти ничего, что говорило бы о нем отрицательно, — ни одного такого его поступка, который ронял бы его в моих глазах. Ничего.…Так каким же он был? Для себя я отвечаю на этот вопрос словами из любимого им произведения: он — “лучший из людей, с которыми случалось мне сходиться” (У. Шекспир, “Гамлет”)».
— 9 лет я прожила с ним в одной комнате, не в подвале Психологического института, где Лев Семенович жил сразу после приглашения в Москву, а на Серпуховке. В те годы это была глухая провинция… (Смеется.)
— Вам было 9 лет, когда папы не стало?
— Не просто 9 лет, а мой день рождения — был последний день, когда он работал. Уходя, он сказал мне: «Постараюсь прийти пораньше». Но на работе у него случилось очень тяжелое кровохарканье. Его привезли домой, положили на кровать, и когда я вбежала в комнату, он только прошептал губами: «Я обещал тебе прийти пораньше. И пришел». Больше Лев Семенович не поднялся. У него была тяжелая форма туберкулеза легких. Был пневмоторакс. Еще в 25–26-х годах его положение было настолько тяжелым, что его жизнь исчислялась месяцами. Ему систематически поддували легкие. Было очень тяжело, но это продлило ему жизнь на 8–9 лет. Он знал, что приговорен, что отпущены месяцы… А прожил еще годы.
— Поэтому он так много работал?
— Да, он так много работал, торопился закончить свои труды. У меня есть письмо отца к любимому ученику — Сахарову. Он пишет: «Я в очень трудных условиях: в палате 6 тяжело больных, койки стоят вплотную, работать очень трудно». Но в таких условиях он писал «Исторический смысл психологического кризиса».
У папы на голове…
— Расскажите, каким Вы его запомнили как папу…
— У мамы был довольно твердый характер, и я всегда была ближе с папой. Маму я бесконечно преданно любила, но по духу был ближе папа. И все детство было с ним связано, несмотря на его бешеную загруженность. Мы жили в 23-метровой комнате вчетвером: мама, папа, я и сестренка. Этот дом снесли в 1971 году. И сейчас на месте дома — шахта метро «Серпуховская». Я всегда думаю, когда вижу идущих в метро людей, что они даже не подозревают, какие интересные вещи происходили на том самом месте, где они садятся в поезда…
Жили мы так: стоял письменный стол, стеллажи с книгами до потолка и наше ложе, на котором мы спали, — кровать родителей, детская кровать сестренки и довольно узкий диванчик, на котором много лет спала я. Выготский Лев Семенович сидел за столом спиной и работал, а у него «на голове» мы играли. Спинка стула использовалась для строительства домика куклы. С его стороны — никакого возмущения и раздражения, — это считалось вполне нормальным. У меня какие-то игрушки были, а у ребят во дворе совсем не было, и они подговаривали: «Сходи спроси: можно ли у вас поиграть?» Вот хорошо помню, я спрашиваю у мамы как у первой инстанции: «Ребята хотят прийти к нам поиграть…» Мама показывает — папа работает. Он тут же поворачивается, как бы ни был сосредоточен: «Можно, конечно, можно. Ко мне приходят товарищи, и было бы несправедливо, если к тебе не могли прийти. Иди зови ребят». И на оставшихся 7–9 свободных метрах мы играли. Причем ребята, не стесняясь, в полный голос говорили. Он только поворачивался, смотрел на нас и продолжал работать.
Где-то в 31-м году из Берлина вернулась очень верный Выготскому Льву Семеновичу человек — Блюма Вульфовна Зейгарник. Она вспоминала в 1984 году в день, когда отмечали 50-летие со дня его смерти, как была потрясена, когда впервые попала к нам домой. Выготский Лев Семенович сидит, работает. Мама делает свои дела по дому. Кто-то входит, выходит, разговаривает. Дети играют. А он работает. Зейгарник не могла себе представить, что в таких условиях можно написать такие труды, какие написал Выготский Лев Семенович.
— При такой занятости сколько же отцовского времени доставалось старшей дочери?
— Специального времени он мне уделять не мог, но я никогда не слышала от него: «Я занят» или что-то в этом роде. Естественно, мы были приучены, если у него сидел кто-то из аспирантов или сотрудников, мы с сестрой не лезли. А в положенные 8:30 вечера стелила свой диванчик и под эти разговоры засыпали. Мне тогда казалось — какой скукой они занимаются… (Смеется.) Иногда со мной договаривались: «Придут друзья, ты, пожалуйста, сиди тихо. Не мешай». Они собирались и, закатив глаза, читали стихи. На греческом, на немецком и, конечно, на русском.
Иногда отец брал меня с собой, когда ходил консультировать в Институт мозга. Сначала мне показывал все, включая знаменитую банку — мозг Ленина, а потом я ждала во внутреннем дворике, пока он освободится. Зато нам предстояла обратная дорога с разговорами.
В нашем доме творятся несправедливые вещи!
— Фразой: «Это было бы несправедливо — мне можно, а тебе нельзя», я бы описала атмосферу нашего дома. У нас жил Леня — мой двоюродный брат, на 2 года старше. Для меня он был огромным авторитетом. И мы с ним были глубоко уверены, что то, что можно взрослым, можно и нам. Произошла такая смешная история. За несколько лет до смерти Выготский Лев Семенович начал курить. Как легочнику, ему, конечно, не нужно было это делать. А так как это доставляло ему удовольствие, то ни у кого не хватало духа запретить ему. И в один прекрасный день Леонид говорит мне: «Ты знаешь, у нас в доме творятся несправедливые вещи: вот Лев Семенович курит, а нам не дал». Я была возмущена: действительно! Мне самой это в голову не пришло. Я говорю: «Давай до вечера подождем, он придет, и будем выяснять отношения». Пришел папа. Все ужинали. Мы сидели с двух сторон от него, болтали ногами и с нетерпением ждали, когда он закончит чаепитие. В семье очень любили вечерами пить чай возле печки и разговаривать. А тут он нам был нужен. Мы сгорали от нетерпения… И вот с чаем было покончено, он отодвинул стакан, только хотел достать портсигар, а я ему говорю: «Ты знаешь, у нас творятся несправедливости». Он очень серьезно к этому отнесся. «Вот ты куришь. А нам с Ленечкой и не подумал предложить». Он подумал и спросил: «А ты уже пробовала?» Говорю: «Я нет, а Леня пробовал». Он еще подумал и сказал: «Ты права. Будем курить вместе». Никто из присутствующих, а семья у нас собиралась человек 11–12, не проронил ни слова. Он достал три папиросы. Размял, дал нам с Леней, объяснил для чего нужно разминать, потом показал, как надо примять мундштук у папиросы… Все молчали… Гробовая тишина. А у меня — торжество на душе невероятное! Он поднес зажигалку мне, Лене, себе. «А теперь, — говорит, – надо вдохнуть глубоко...» До этого момента я помню все отчетливо. После этого — ничего не помню. И больше я никогда не пробовала курить. А Леня закурил на 18 году жизни.
— В большой семье — 12 человек — был кто-то старше Льва Семеновича?
— Дедушка и бабушка.
— А кто считался главой семьи?
— Наверное, дедушка. До 31 года, когда дедушка умер. Потом все обязанности за семью и сестер папа взял на себя.
— И все-таки, старшие молчали, когда он дал вам курить…
— Да, все молчали. Негласно он был любимцем в семье, но никогда этим не пользовался.
Мой талисман
— Его любили в семье, любили и уважали ученики. А как он сам к себе относился?
— Очень требовательно. Предельно скромный человек, сверхделикатный. Поэтому он в каждом готов был видеть человека, значащего больше, чем он сам. И это не было позой. Никогда. Он слушал своих учеников так, что если бы Вы вошли, то не поняли, кто учитель, а кто ученик. Отношение к людям у него было необыкновенное. У нас в институте дворник работал много лет. Однажды у меня с ним зашел разговор о Выготском Льве Семеновиче. Уборщицы говорили похожие вещи. Из Ярцево, где отдыхали летом, мы забрали в Москву сына хозяев, у которых снимали квартиру, а на следующий год дочь. Им в институты надо было поступать. И у отца как-то находилось время опекать молодых студентов.
— А все-таки, как к себе он относился? Любил себя?
— Он никогда о себе не думал, не заботился о себе, легко и охотно поступался своими удобствами ради окружающих. Человек по 8–10 часов в день читает лекции на одном легком… Остальное время сидит, пишет. Ночью проснешься — мама, сестренка спят. На столе горит зеленая лампа — он работает. Фактически, он относился к себе по-варварски. Он своей значимости не понимал. Вот еще такой пример. Мне надо было идти в школу. В один из дней в августе он приехал и сказал: «Тебя приняли в школу. И самое интересное, ты — Выгодская, и класс — “в”. Легко запомнить». Оказывается, это был самый слабый класс: «нулевку» я не проходила, и меня записали в класс «в». Но его это нисколько не ущемляло. Настало 31 августа (тогда это был первый день учебного года). Завуч в сером халате зачитывал списки. И вдруг, читая список первого «а», зачитывает мою фамилию. Папа говорит: «Это недоразумение. Ты записана в класс “в”». Когда завуч закончил читать, Лев Семенович подошел к нему (а отец консультировал эту школу) и говорит: «Тут какая-то ошибка. Моя дочь в классе “в”». Я очень хорошо помню этот разговор — папа держал меня за руку. Тот ответил: «Мы просто посчитали, что дочь Выготского может учиться в классе “а”». Смущение на лице Льва Семеновича было заметным. Мне самой было неловко идти с ним в этот класс «а»…
— А как он относился к Вашей маме? Каким был мужем?
— Он очень любил маму. Очень гордился ей. У меня сохранилась такая записная книжечка, в которую он вносил записи в Лондоне… И на странице дня рождения мамы он так о ней пишет… Я была так взволнована, когда прочла слова, обращенные к ней… Он очень любил, когда она с ним ходила на конференции, заседания. Мама одно время работала в Институте дефектологии – в самом трудном, диагностическом отделении, и приводила трудных детей к нам домой, чтобы у них была передышка, когда родители их не брали. Мама работала, и папе это было приятно и интересно. Я вообще в семье не слышала ни одной ссоры, ни разу никто не повысил голос. Ни разу не помню, чтобы бабушку называли иначе, как «мамочка». Уже совсем взрослая я узнала от мамы такую историю. У нее было серебряное колечко, доставшееся ей когда-то от матери. Когда папа уезжал, он брал его с собой. Сначала просто как материальное напоминание о маме, но постепенно это кольцо стало талисманом. Всегда, расставаясь с мамой, он брал это кольцо с собой. И в день его похорон в крематории мама сняла с руки кольцо и надела на палец папе.
«Давай я пойду на психологическое…»
— А как Вам было быть дочерью Выготского Льва Семеновича?
— Как Вам сказать… В общем, трудно. Фамилия была одиозная, хоть и отличалась одной буквой. Отец изменил «д» на «т». Его родственникам этого сделать не разрешили. Многие не знали точно, кто такой Выготский Лев Семенович, «он ли украл, у него ли украли», — с чем-то таким он был связан. (Смеется.) Я училась во времена «махровые». Страшные. Проректор по кадрам в МГУ, до сих пор помню его фамилию — Почекутов, был страшный человек. Что он делал со мной на распределении! Вы не представляете себе. «Она из Гомеля. Не была ли в оккупации? Нет. А не было ли родственников в оккупации? Нет. А нет ли родственников за границей…» Самое худшее распределение дали мне. И даже после распределения 3 месяца меня не брали на работу. Я уже с грудным ребенком была готова работать кем угодно. Александр Романович Лурия помог, и меня взяли лаборантом.
— А у Вас была внутренняя альтернатива — в психологию идти или куда-то еще?
— Я хотела стать историком (меня интересовала древняя история). А мама узнала, что есть отделение психологии. Ей ужасно этого хотелось! Знаете, я считаю, она это заслужила: одна, без высшего образования, «тянула» двух детей. Какой ценой, каким трудом… И я решила, что читать книги по истории я могу и сама, в конце концов, и сказала маме: «Давай я пойду на психологическое…»
— Вы не пожалели потом?
— Много сложностей, конечно, было. Заведовал отделением психологии Рубинштейн, а он, по словам его ученика Ярошевского, запрещал произносить даже имя Выготского. Даже когда училась моя дочь на психфаке, она старалась не афишировать, что она — внучка Выготского.
Беседовала Елена Шуварикова.
От автора: Гита Львовна сказала, что отец был предельно скромным человеком. По-моему, и они — его потомки (кстати, почти все психологи) — похожи на него в этом. Ум, достоинство и простота. Как редко встречается мне в людях такое сочетание…

.jpg)








.jpg)






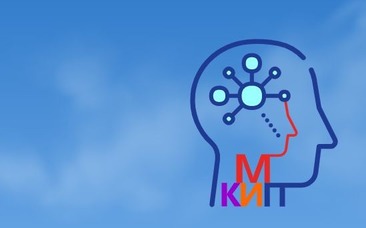














































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать