
Введение
Согласно процессуальным нормам гражданского судопроизводства, заключение эксперта является одним из видов доказательств и не имеет заранее установленной силы. Вместе с тем заключение эксперта при рассмотрении гражданских споров, связанных с воспитанием детей, а также исков о лишении, ограничении, восстановлении родительских прав имеет важное доказательственное значение. Это обусловлено рядом причин. Так, согласно ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации1 (далее — СК РФ), при отсутствии соглашения о месте жительства детей при раздельном проживании родителей спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает различные обстоятельства: привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между родителем и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности и режим работы родителей, материальное и семейное положение и другое). При отсутствии соглашения о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, спор также решается судом (ч. 2 ст. 66 СК РФ). В законе закреплено, что общение с отдельно проживающим родителем не должно причинять вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию (ч. 1 ст. 66 СК РФ). Ряд обстоятельств и факторов, которые суд должен учесть при принятии решения, имеют психологическую природу, и потому при их установлении необходимы специальные знания в области психологии, что обусловливает назначение судебной психологической экспертизы (СПЭ) или комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ). Верховным судом Российской Федерации (далее — ВС РФ) при разрешении споров, связанных с воспитанием детей, прямо рекомендуется назначение судебных экспертиз с участием психолога2.
В силу подлежащих доказыванию фактов, важных для принятия решения по делу, заключение эксперта приобретает особое значение и может существенно повлиять на формирование внутреннего убеждения суда. Обоснование в решении суда причин, по которым заключение эксперта отвергнуто в качестве средства обоснования выводов суда либо отдано предпочтение другим доказательствам, требует грамотной всесторонней и глубокой оценки заключения эксперта.
Формально любое заключение эксперта для суда необязательно и оценивается по определенным правилам, установленным ст. 67 ГПК РФ3. К числу таких правил относятся (1) оценка судом заключения эксперта по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, и (2) оценка относимости, допустимости, достоверности заключения как самостоятельного доказательства. Заключение эксперта должно основываться на положениях, позволяющих проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных (ст. 8 ФЗ о ГСЭД4).
Требование строгой научной и практической основы проводимых судебным экспертом исследований ставит заключение эксперта в ряд доказательств особой природы — основанных на данных науки, что повышает доверие к нему со стороны суда. Тем самым, будучи одним из доказательств по делу, заключение эксперта все же обладает такими особенностями, которых лишены некоторые иные доказательства.
Экспертные ошибки могут приводить к ошибкам судебным. Эксперт как лицо, обладающее специальными научными знаниями, которые он применяет при производстве судебной экспертизы, несет особую ответственность за проведенные исследования и сделанные на основе полученных результатов выводы. Экспертным ошибкам в рассматриваемой области уже посвящен ряд работ [1–4], полезных для участников процесса при оценке заключения эксперта, а также экспертам при профессиональной подготовке.
Предмет данного исследования — ошибки при производстве судебной экспертизы по гражданским делам, связанным со спорами о воспитании детей. Задача состоит в выявлении и обобщении наиболее существенных ошибок (как процессуальных, так и гносеологических), обусловленных субъективными факторами, вытекающими из нарушений экспертом требований к своей профессиональной подготовке и несоблюдения экспертной методологии.
Наибольшее число ошибок встречается в заключениях, выполненных так называемыми частными экспертами — экспертами из числа лиц, не являющихся сотрудниками государственных судебно-экспертных учреждений (СЭУ) [2, с. 110–117; 5, с. 369–370], которые нередко именуют себя «независимыми». Безусловно, государственные эксперты тоже не застрахованы от ошибок, но многие из них несущественны благодаря системам профессиональной подготовки и повышения квалификации экспертов, а также контролю качества заключений, существующих в государственных СЭУ (см., например, [5, с. 370–373; 6]).
Предыдущее обобщение экспертной практики по данному предмету, проведенное более семи лет назад, нашло отражение в работе 2012 года [7], которая с тех пор выдержала не одно стереотипное издание. Мы констатировали, что к числу наиболее часто допускаемых экспертами ошибок относятся процессуальные нарушения, нарушения научной методологии, выход за пределы компетенции эксперта и нарушение этических принципов. Содержательному же анализу ошибок в заключениях эксперта в настоящее время и поиску путей их преодоления было подчинено текущее обобщение экспертной практики.
Цель настоящей работы — выявить, обобщить и проанализировать типичные экспертные ошибки, допускаемые при производстве судебной психологической экспертизы по делам, связанным с воспитанием детей.
Помимо заключений эксперта по результатам СПЭ (97 заключений) и КСППЭ (11 заключений) по делам, связанным с воспитанием детей (об определении места жительства детей при раздельном проживании родителей и порядка участия в воспитании отдельно проживающего родителя), в эмпирическую базу исследования вошли заключения так называемых психолого-педагогических экспертиз (82), о процессуальной и научно-методологической несостоятельности которых мы писали ранее [8].
Неверное определение вида экспертизы
От правильности определения вида судебной экспертизы и постановки экспертных задач во многом зависят эффективность применения специальных знаний, информативность полученных результатов и доказательственное значение заключения эксперта. Так, по судебным спорам о воспитании детей чрезвычайно часто назначаются психолого-педагогические экспертизы, проведение которых на строго научной основе невозможно. Показано, что необходимость применения знаний в области педагогики при проведении судебной экспертизы в отношении детей и родителей по спорам о воспитании детей в гражданском судопроизводстве отсутствует, а назначение психолого-педагогической экспертизы не соответствует потребностям правосудия в целом и судопроизводства, в частности [8].
Тем не менее судом назначаются не только психолого-педагогические, но даже психолого-валеологические экспертизы, несмотря на то что термин «валеология» (от лат. valeo — быть здоровым) имеет отношение к общей теории здоровья, не входящей в медицину. Современная наука к валеологии относится критически в связи с тем, что в ее состав были включены ненаучные, религиозные и оккультные концепции, а также нетрадиционная медицина. В 2001 году предмет «валеология» был исключен из базисного учебного плана образовательных учреждений, а специальность «педагогическая валеология» исключена из Перечня направлений подготовки и специальностей высшего педагогического образования [9]. Совершенно очевидно, что существование судебной валеологической экспертизы не обосновано в связи с отсутствием строго научной основы у этой отрасли знаний и системы подготовки специалистов.
Нельзя забывать, что диагностика в ходе судебной экспертизы по спорам о воспитании детей направлена в том числе на установление особенностей внутрисемейных отношений и взаимоотношений ребенка с каждым из родителей, выявление психологических особенностей каждого из родителей и ребенка, психологический анализ семейного конфликта, установление психологического влияния на ребенка со стороны одного из родителей. Поэтому решение данных вопросов требует применения именно психологических знаний, а не педагогических или валеологических.
Таким образом, ни психолого-педагогические, ни психолого-валеологические экспертизы по семейным спорам в рамках гражданского судопроизводства не имеют теоретической, методологической основы, соответственно и предмета исследования, в связи с чем не могут отвечать потребностям судопроизводства. Ни педагоги, ни педагоги-психологи, ни валеологи или психологи-валеологи по роду своей профессиональной подготовки (образовательных программ) не могут обладать необходимыми компетенциями для установления фактов, касающихся детско-родительских отношений, и других важных обстоятельств, имеющих юридическое значение для принятия решения по делу.
Тем не менее не уменьшается, а, напротив, растет число экспертов, готовых принять к производству экспертизы со спорными теоретическими и методологическими основами или с полным отсутствием таковых — следовательно, с весьма сомнительными возможностями установления юридически значимых обстоятельств. Представляется очевидным, что подобные эксперты либо не обладают необходимой подготовкой для реализации ответственности судебного эксперта, либо открыто пренебрегают соблюдением профессиональных требований. Данные обстоятельства ставят под сомнение не только компетентность эксперта, его способность грамотно действовать в профессиональном поле, но и его морально-этические качества.
Необходимо отметить и тот факт, что встречаются случаи назначения по судебным спорам о воспитании детей комплексных психолого-психиатрических экспертиз без постановки судом вопросов к эксперту-психиатру. Подобные прецеденты часто возникают при поручении производства судом комплексных экспертиз частным клиникам, сотрудники которых не всегда имеют необходимую профессиональную экспертную подготовку, свидетельством чему являются ответы на поставленные вопросы, не относящиеся к их компетенции. Это является основанием для признания заключения эксперта недопустимым доказательством.
Ненадлежащий субъект судебно-экспертной деятельности
Одним из основных этических принципов деятельности судебного эксперта является принцип профессиональной компетентности, которая складывается из его специальных знаний, искусства производства судебной экспертизы и психодиагностического исследования. Учитывая важность экспертных решений для судьбы участников процесса, подэкспертных и особенно детей, только высокая степень овладения экспертом специальными знаниями «дает ему моральное право принимать самостоятельные ответственные решения при производстве экспертизы» [10, с. 121–122; 11].
При этом любые профессиональные знания формулируются в законодательстве как «специальные» применительно к целям судопроизводства, а специальные психологические знания включают знания об юридической значимости диагностируемых психологом явлений, знания о их возможных последствиях, они не выступают как чисто теоретические, должны быть научно обоснованными, внедренными в практику и составлять часть профессионального опыта. Необходимо помнить и о том, что эти знания «должны быть профессиональными психологическими, полученными в результате специальной подготовки (образования), и не пересекаться с юридическими знаниями…» [12].
Поэтому эксперт должен постоянно совершенствоваться в профессиональном плане, при этом использовать все доступные формы дополнительного обучения, изучать научную и методическую литературу, повышать свою компетентность. Эксперты, не являющиеся сотрудниками государственных СЭУ, не должны пренебрегать требованием закона, прямо относящегося к государственным судебным экспертам, но очень важным и для них, что следует из духа закона и аналогии права — требованием к базовой и дополнительной профессиональной подготовке, подтверждению квалификации.
Представляются безответственными и аморальными заявления негосударственных экспертов о том, что закон не предъявляет требований к их подготовке, кроме наличия высшего профессионального образования. Много раз было обосновано и доказано: эксперт в сфере судопроизводства — особая профессия, обладателю которой недостаточно иметь только базовое психологическое образование. Эксперт должен обладать знаниями в области судебной экспертологии, теории и практики судебной экспертизы, владеть умениями и навыками в применении экспертных методик, иметь необходимые познания из смежных научных областей. Несоблюдение указанных принципов приводит к серьезным нарушениям при производстве экспертизы, которые суд, не обладающий психологическими знаниями и доверяющий собственно статусу эксперта (нередко безосновательно), может оценить неверно.
Введению суда и участников процесса в заблуждение способствует предоставление экспертом документов о подготовке, переподготовке и повышении квалификации, выданных негосударственными образовательными и сертификационными структурами. К сожалению, наличие у эксперта подобных многочисленных, но в большинстве своем сомнительных документов способствует формированию у суда неверного представления о достаточном или даже высоком уровне квалификации эксперта и, соответственно, неадекватного доверия к его заключению. Так, при рассмотрении гражданского дела, заключение эксперта по которому разбиралось в настоящем исследовании, эксперт предоставил суду «Диплом Института образования взрослых» с «почетным званием доцента», выданный за «успехи», «Диплом о присуждении ученого звания советника», «Сертификат соответствия требованиям добровольной сертификации, предъявляемым к клиническим психологам» (сроком на три года) (аналогичные сертификаты на «нейропсихолога» и «психиатра»). Несовершенство же закона в части профессиональных и квалификационных требований к экспертам позволяет суду некритично относиться к проверке их компетенции [8].
Стремительно увеличивается число психологов и педагогов-психологов, позиционирующих себя «экспертами-психологами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере судебной экспертизы» (например, «ИП Иванова А.А. «Психологическая экспертиза», «ИП Сидоров В.В. «Судебно-психологическая экспертиза» и т.п.), безапелляционно заявляющих суду о наличии у них достаточной квалификации в виде высшего профессионального образования. Как снежный ком растет количество «сертифицированных экспертов», получивших так называемые сертификаты соответствия в различных коммерческих структурах, не проводящих для будущих обладателей «сертификата эксперта» ни необходимого обучения, ни соответствующей аттестации или иной проверки компетентности. Поскольку нередко суды воспринимают подобные «лицензии» и «сертификаты» как документы, подтверждающие квалификацию эксперта, порочная практика привлечения лиц, не имеющих необходимых компетенций, к выполнению сложнейшего вида СПЭ и КСППЭ, касающегося детско-родительских отношений, расширяется. При этом выводы подобных «экспертов» закономерно изобилуют грубейшими ошибками методологического и этического характера, а также превышением пределов компетенции.
В числе представляемых суду частными экспертами дипломов значатся «Сертификаты соответствия судебного эксперта №КАЕО RU.SP.52.8962/01 по экспертной специальности 20.1 “Исследование психологии человека”» и подобные им. При этом экспертная специальность 20.1 «Исследование психологии человека» входит в «Перечень экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России»5. Никакой орган не уполномочен Минюстом России сертифицировать экспертов, не являющихся сотрудниками системы СЭУ Минюста России, по указанной экспертной специальности.
Выход эксперта за пределы научной и процессуальной компетенции
Знание пределов своей научной компетенции, современных возможностей базовой науки (психологии) и смежных дисциплин, владение специальными знаниями являются неотъемлемой частью деятельности судебного эксперта и входят в его ответственность. Однако выход за пределы компетенции, вторжение в сферу права, психиатрии встречаются довольно часто и именно у негосударственных экспертов.
Вторгаясь в область психиатрии, подобные эксперты с легкостью выставляют подэкспертным диагнозы. Например, по делу П. эксперты психолог и педагог-психолог необоснованно приняли к производству экспертизу в отношении лица, страдающего психическим расстройством, и вышли за пределы своей компетенции, решив вопрос, могут ли индивидуально-психологические особенности отца (страдающего психическим расстройством) нанести вред психическому развитию ребенка и может ли П. по своему психическому состоянию участвовать в воспитании ребенка. Явный выход эксперта-психолога за пределы своей компетенции содержится и в заключении, данном психологом М., имеющим базовое бухгалтерское образование, переподготовку с выдачей диплома по специальности «Психолог-практик» и повышение квалификации по медицинской психологии, в рамках назначенной психолого-педагогической экспертизы. Он подписался в заключении как «медицинский психолог» и поставил одному из родителей диагнозы «бредовый синдром, гомоориентированная* педофилия, эфебофилия», но во-первых, согласно ч. 2 ст. 20 «Права и обязанности медицинских работников и иных специалистов при оказании психиатрической помощи» Закона РФ №3185-16, «установление диагноза психического заболевания, принятие решения об оказании психиатрической помощи в недобровольном порядке либо дача заключения для рассмотрения этого вопроса являются исключительным правом врача-психиатра или комиссии врачей-психиатров». А во-вторых, согласно «Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих», должность «медицинский психолог» может занимать только гражданин, имеющий высшее профессиональное образование по специальности «клиническая психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное (психологическое) образование и профессиональную переподготовку по специальности «клиническая психология» без предъявления требований к стажу работы.
Нередко эксперты-психологи выходят за пределы своей компетенции, решая правовые вопросы. Так, психолог А. при производстве экспертизы пришел к следующему выводу: «Предъявляемая Н. родительская позиция является декларативной, не соответствует ее личностным ресурсам и не может обеспечить полноценное и всестороннее воспитание и психологическое развитие детей Р., 2013 года рождения, и А., 2016 года рождения». Данное утверждение не только выходит за пределы специальных знаний и компетенции эксперта-психолога и возможностей СПЭ [13], но и является совершенно абсурдным, поскольку родительская позиция в принципе не может соответствовать личностным ресурсам, а также она (позиция) не может обеспечить воспитание и психологическое развитие детей.
Не входит в компетенцию экспертов и определение места жительства ребенка при раздельном проживании родителей, порядка общения ребенка с отдельно проживающим родителем. Такие решения должны приниматься только судом на основании исследования всех обстоятельств дела. Вне компетенции эксперта и оценка условий проживания подэкспертных, их материального дохода и графика труда — все это относится к исключительной прерогативе суда.
Эксперты, к сожалению, нередко дают некомпетентные рекомендации о порядке общения родителей с ребенком, о возможности либо невозможности общения одного из родителей с ребенком, что имеет серьезные последствия и нарушает права не только родителей, но и детей (ст. 55 СК РФ). В других случаях даются неиндивидуализированные и часто морализаторские рекомендации. Например, по делу Д. эксперт отвечает на вопрос «Возможно ли осуществление общения несовершеннолетних детей с отцом в соответствии с предъявляемыми требованиями как отцом, так и матерью?» следующим образом: «Да, возможно в части требований, соответствующих интересам детей, а именно: не нарушать установленный порядок общения; отдавать и возвращать детей в установленный срок; не чинить препятствия близким родственникам в общении с детьми по телефону, сети “Интернет”, с учетом распорядка дня и режима сна детей; своевременно сообщать информацию, имеющую существенное значение в вопросах воспитания детей, местонахождении детей, состояния их здоровья, возникающих потребностях, местонахождении детских, образовательных и прочих учреждений, которые посещают дети; корректно относиться друг к другу и близким родственникам, не подрывать авторитет в глазах детей и не формировать у детей негативного мнения о матери, отце и близких родственниках; своевременно сообщать об изменении места жительства и номеров мобильных телефонов, в том числе телефонов для связи с детьми; совместно решать вопросы, связанные с получением образования детей». То есть даются обобщенные, выхолощенные, «идеализированные» рекомендации; эксперт рассуждает о значимости равного участия родителей в воспитании детей (что не требует проведения экспертизы), но не учитывает индивидуальных особенностей семейной ситуации и индивидуальных особенностей детей, их родителей и существующих между ними взаимоотношений.
Нельзя считать правомерным, в связи с вторжением в сферу права, и такой вывод эксперта, содержащий в себе манипулятивный прием в виде спекуляции на психическом развитии ребенка: «Противодействие встречам детей с отцом или существенное сокращение их совместного времяпрепровождения может рассматриваться как поведение против интересов детей, приносящее вред их психическому развитию».
С другой стороны, встречаются отказы экспертов от дачи заключения по вопросам, входящим в их компетенцию, по некорректным основаниям. Например, было указано, что вопрос «Самостоятельно ли или под влиянием третьих лиц у ребенка сформировалось желание проживать с матерью (отцом)?» не входит в компетенцию эксперта-психолога, так как «предполагает установление фактических данных». При этом предмет судебной экспертизы как раз и состоит в установлении фактических данных на основании исследования [14, с. 70]. В ГОСТ Р 57344-20167 указано, что предметом СПЭ являются «фактические данные о закономерностях и особенностях протекания и структуры психической деятельности человека, имеющие юридическое значение и влекущие определенные правовые последствия, устанавливаемые с помощью специальных знаний и практических навыков эксперта в области психологии путем исследования объектов, представленных на исследование». В уже упоминавшемся Обзоре судебной практики ВС РФ (2015) указывается, что при разрешении споров, связанных с воспитанием детей, судебно-психологическая и комплексные с нею экспертизы назначаются для определения, в числе прочих обстоятельств, и «наличия или отсутствия психологического влияния на ребенка со стороны одного из родителей».
Таким образом, эксперты отказались от решения вопроса, входящего в их компетенцию.
Пытаясь завуалировать грубейший выход за пределы своей компетенции при вторжении в область права, эксперты нередко используют разные «хитрости». Так, перед формулированием выводов, очевидно выходящих за пределы их профессиональной компетенции, добавляют речевые конструкции «психологически» или «с психологической точки зрения», формируя тем самым у суда неверное представление о границах специальных знаний и научной обоснованности заключения эксперта. Например, рекомендуя суду график общения отца с ребенком, эксперт делает следующий вывод: «Психологически: для гармоничного развития малолетнего М. встречи его с отцом А. должны проходить каждую среду и пятницу, за исключением праздничных дней и периода школьных каникул, с 16:00 до 18:00 часов в присутствии матери на ее территории по адресу…». Или: «С психологической точки зрения порядок общения, предложенный истцом И., неприемлем для малолетнего ребенка А., поэтому предпочтителен график общения, предложенный ответчиком П., а именно каждый третий понедельник месяца с 15:00 до 20:00…» и др.
Неполнота исследования
Проведение полного и всестороннего исследования невозможно без исследования всех материалов гражданского дела. Анализ материалов дела является необходимым и обязательным этапом СПЭ. Изучение и анализ экспертом материалов гражданского дела и иной документации обязательны для психологического анализа сложившейся ситуации, включающей историю внутрисемейного конфликта, его динамику, характер взаимоотношения детей с каждым из родителей.
В соответствии со статьями 8, 16 и 25 ФЗ о ГСЭД, ст. 85 и 86 ГПК РФ, нормативно-правовыми актами и методическими рекомендациями8, методической литературой [15–17], судебно-психологические экспертизы должны выполняться с использованием всех обязательных методов и этапов экспертного исследования: психологического анализа материалов дела, биографического метода (психологического анамнеза), метода наблюдения, беседы, экспериментально-психологического исследования, исследования детско-родительских отношений, в том числе с помощью пробы на совместную деятельность. Только грамотное использование всей совокупности методов судебно-психологического исследования позволяет проверить обоснованность и достоверность сделанных экспертом выводов на базе общепринятых научных и практических данных и методологии СПЭ.
В этой связи очевидно, что судебный эксперт-психолог должен обладать не только профессиональными психологическими знаниями, полученными в процессе высшего психологического образования, но и специальными компетенциями эксперта. В первую очередь это знания в области теории, методологии и практики СПЭ, владение экспертными методиками и способность грамотно применять их на практике, понимание процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, пределов своей компетенции и умение их использовать.
Вместе с тем одной из самых распространенных и грубейших ошибок является неполнота исследования, когда эксперт-психолог игнорирует использование всех обязательных методов и проведение всех этапов судебной экспертизы кроме экспериментально-психологического обследования, на основании которого и делаются выводы. При том что само по себе психодиагностическое обследование личности подэкспертных в большинстве своем проводится с грубыми нарушениями как самой процедуры его проведения, так и интерпретации полученных данных. В таких случаях результаты экспериментально-психологического обследования разрозненны и противоречивы, обобщение отсутствует, выводы необоснованны и голословны.
Нередки случаи, когда эксперты совершенно игнорируют негативную информацию об одном из родителей, как имеющуюся в деле, так и сообщаемую ребенком. При этом они придают повышенное значение негативной информации о другом родителе либо игнорируют позитивную информацию о нем, что может свидетельствовать об утрате экспертами нейтральности и объективности своей позиции вследствие не только некомпетентности и неопытности, но и заинтересованности. В таких случаях налицо внутренняя и внешняя противоречивость заключения, когда эксперт исследует или анализирует предоставленные данные, но учитывает их выборочно; выводы не вытекают из содержания и результатов исследования; одни умозаключения противоречат другим; эксперт основывается на информации, полученной со слов одного из родителей, в том числе не соответствующей другим объективным данным, в то время как непротиворечивая психологическая модель должна быть сформирована экспертом в процессе экспертизы только на основании объективных данных.
Ошибочно оцениваются данные и результаты исследований вследствие незнания или игнорирования психологической феноменологии. Например, по делу Б. о матери и ее «негативном» поведении и влиянии на ребенка эксперты вынесли свои суждения только на основании слов отца и по предъявленным им репрезентациям ребенка, которые могли сознательно искажаться под влиянием желания выйти из-под контроля более требовательного родителя (матери), что свойственно подросткам. Причем это было выявлено, но не описано экспертами.
В процессе экспертизы необходимо установить механизм формирования негативного или конфликтного отношения (при его наличии) ребенка к родителю. Известно, что особенности непосредственных реакций ребенка на развод родителей специфичны для каждого возраста, поэтому необходимо проследить, в каком возрасте ребенка произошел разрыв родителей, на каком этапе он был вовлечен в родительский конфликт, как это повлияло на его состояние и поведение. Необходимо установить психологическую мотивацию подростка при выборе места жительства. Например, из представленных материалов по делу В. следует, что психологическая мотивация Ю. могла быть связана с избеганием необходимого ему в данном возрасте родительского контроля, осуществляемого матерью, повышенным стремлением подростка к автономии, а также желанием избежать напряженности в отношениях с родителями в связи с их межличностным конфликтом. Кроме того, возможны рентные мотивы (скажем, получение обещанных отцом материальных благ и выгод), поскольку проживание с матерью, с которой у Ю., исходя из представленных материалов, эмоционально теплые и доверительные отношения, не препятствует его регулярному содержательному общению с отцом.
Ребенок может принять решение о месте проживания и в условиях психологического индуцирования9 одним из родителей [18–22]. Таким образом, учет мнения ребенка (даже подросткового возраста) при определении места его жительства не всегда отвечает его истинным интересам [22].
Негативное отношение ребенка к одному из родителей или другим членам семьи эксперты порой характеризуют умозрительно, только на основании наблюдения. Например, по делу К. негативное отношение ребенка к супругу матери охарактеризовано как негативное, избегающее, на основании лишь наблюдения за поведением ребенка («у испытуемой ярко выражено избегающее и конфликтное отношение, а также сформированное чувство непринятия по отношению к супругу матери, на что указывают вегетативные реакции в виде увеличения латентного времени, покраснения кожных покровов, внезапная хаотичная двигательная активность, отказ от включения его фигуры в сюжетные задания и обсуждения»). При этом ребенок обследовался в присутствии отца, что не учтено экспертом при вынесении оценок, а также не учтены индивидуальные и возрастные особенности ребенка (возрастные подчиняемость и внушаемость, ориентация на мнение значимых взрослых). В качестве возможных последствий общения с супругом матери эксперт прогнозировал «ухудшение психологического состояния девочки в виде усиления тревожно-невротических реакций (эмоциональной неустойчивости, нарушений сна, двигательного беспокойства)». Однако о наличии у ребенка невротических реакций в повседневном поведении в заключении речи не идет.
О психологическом индуцировании эксперты порой получают информацию с помощью довольно странных тестов. Например, при обследовании несовершеннолетнего Ш., 2006 г. р., эксперты применили «пробы на определение повышенной внушаемости и наличие психологического индуцирования» («модифицированный тест Роршаха», проба «специфические запахи»), при этом в тексте заключения описание ни самих проб (процедуры их проведения), ни их результатов не содержится, а имеется декларативное суждение: «Выявляются признаки психологического индуцирования на основе эмоционального давления, манипулятивных воздействий со стороны матери».
Неверно понимается феномен привязанности, описанный в терминах теории привязанности Джона Боулби (John Bowlby), в том числе с искажениями. Например, в одном заключении у матери «гипертрофированная привязанность» к ребенку характеризуется не качественно (что соответствует теории привязанности [23]), а количественно, сравнивается степень привязанности к матери и к отцу. Так, по делу Ч. эксперты сделали вывод о «естественной привязанности» детей к обоим родителям, что и без исследования очевидно, если исходить из истории жизни детей. При этом удивительным образом в отношении детей разного возраста (шести и двух лет) эксперты пришли к идентичным выводам, что мать и отца дети не разделяют, имеют к ним «недифференцированное отношение», что более чем странно в отношении не только шестилетнего, но и двухлетнего ребенка.
Вместе с тем в семейном законодательстве используется иное понимание «привязанности» — «чувства близости, основанного на преданности, симпатии к кому-чему-нибудь» [24], а судьями и экспертами привязанность понимается по-разному [25]. Поэтому эксперт обязан установить не привязанность по Боулби, а действительное отношение каждого ребенка к каждому родителю, которое не ограничивается естественной привязанностью, а имеет и индивидуально-психологическую и социально-психологическую обусловленность.
Помимо психологического индуцирования, эксперты нередко игнорируют и другие значимые психологические феномены, например, конфликт лояльности — выраженный внутренний конфликт, в связи с которым ребенок вынужден (осознанно или неосознанно) скрывать свои чувства к отдельно проживающему родителю, чтобы сохранить расположение родителя, совместно с которым он проживает. При неосознаваемом конфликте лояльности отмечается амбивалентное отношение к отдельно проживающему родителю, проявляющееся чаще всего внешней отвергающей позицией при внутренней глубокой потребности в контактах с ним [15; 26].
Часто выводы экспертов при указании места, времени и продолжительности встреч родителя с ребенком, определении негативного влияния индивидуально-психологических особенностей родителя делаются без психодиагностического обследования отца или матери, а констатация отсутствия психологического контакта родителя с ребенком — без применения метода совместной деятельности и т.д. Так, в материалах по делу К. представлены скриншоты переписки матери с новым избранником, впоследствии ставшим ее супругом, которые не исследовались судом как доказательство по делу. Однако выводы частного эксперта основаны исключительно на анализе данной переписки с четким указанием на «невозможность проживания малолетнего ребенка с матерью К., поскольку ее интересы всецело направлены на устройство своей личной жизни, а не на воспитание ребенка, которому она не сможет дать любви и заботы, поскольку занята лишь личной жизнью, как следует из материалов дела, а именно переписки К. с А.».
Применение невалидных методов и методик исследования
Эксперт имеет относительную свободу в выборе методов и методик исследования. Такой выбор подчинен исследовательским и экспертным задачам, обусловлен объектом экспертизы. Не менее важным является соответствие избираемых методов и методик требованиям к ним. Основными требованиями к методикам являются их надежность и валидность, а также применимость в судебно-экспертной практике. Методик должно быть необходимое и достаточное количество, обеспечивающее достоверность результатов. Относительно числа методов и методик имеются рекомендации, разработанные в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России и рекомендованные к применению для экспертов СЭУ Минюста России. Частные эксперты эти требования, как правило, не соблюдают, даже когда указывается, что эксперт прошел курсы повышения квалификации в Центре им. В.П. Сербского.
Для экспертного исследования нередко применяется недостаточный набор методов и методик. Например, по делу А. при обследовании ребенка применена только одна надежная стандартизированная опросная методика (ИТДО10 Л.Н. Собчик), направленная на исследование индивидуально-психологических (личностных) особенностей, которая, однако, рассчитана на детей от 10 до 15 лет, а на момент экспертизы ребенку было 16 лет.
Согласно стандартам, при исследовании индивидуально-психологических особенностей подэкспертного необходимо применить не менее двух стандартизированных опросных методик. Кроме того, помимо исследования познавательной сферы и личностных особенностей ребенка, эксперт-психолог должен применить не менее трех методик, направленных на исследование детско-родительских отношений, что отражено как в методической литературе [17; 27], так и в нормативной11.
Весьма распространено применение экспертами и невалидных методик. Например, для исследования родительского отношения практически повсеместно применяется «Опросник родительского отношения (ОРО)», который носит узкоприкладной характер и не выходит за рамки психотерапевтического подхода, вследствие чего неприемлем в рамках судебной экспертизы. По оценкам отечественных специалистов, вопросы в нем нечетко дифференцированы и несбалансированы по каждой шкале, вопросник нуждается в психометрической доработке, он не имеет данных о валидации и подтверждении надежности. Очевидно: такой инструмент психодиагностики не может использоваться в судебной экспертизе (см., например, [28; 29, с. 146]). Методика изучения родительских установок (Parental Attitude Research Instrument — РARI), разработанная американскими психологами Е. Шефер и Р. Беллом и адаптированная в России Т.В. Нещерет, согласно современным психологическим исследованиям также не является валидной [30].
Неоправданно большое внимание эксперты уделяют проективным методикам и их интерпретации, которая субъективна, поскольку зависит от исследователя. Необходимо помнить, что проективных методов, какими бы «заманчивыми» для экспертов они ни были, категорически недостаточно для проведения полного и всестороннего исследования и, соответственно, для получения достоверной информации об индивидуально-психологических особенностях ребенка и его действительном отношении к каждому родителю (и родителя к ребенку).
Проективные методы («Семейная социограмма», «Рисунок семьи», «Рисунок человека», «Тест М. Люшера» и др.) не являются достаточно обоснованными инструментами диагностики в целях получения результатов, имеющих доказательственное значение, поэтому нельзя при диагностике семейных взаимоотношений ограничиваться только ими. В связи с тем, что методы проективного тестирования не приводят к безошибочным результатам и их интерпретация субъективна, они нуждаются в дополнительной проверке, должны использоваться в комплексе с опросниками, методами шкалирования, оценкой взаимодействия ребенка с родителем. Результаты применения психологических методик обязательно должны быть верифицированы психологическим анализом материалов гражданского дела.
Следует учитывать, что часто применяемые экспертами методики (такие как «Семейная социограмма», «Опросник Е. Шафера», «Рисунок семьи», «Опросник ВРР», «Методика Рокича») не защищены от социальной желательности при обследовании взрослых и подростков — направленность методов легко ими распознается. Поэтому при наличии определенной установки результаты легко представить в выгодном для обследуемого свете, сознательно исказить.
Один из важных методов, применяемых при исследовании детско-родительских отношений, — исследование совместной деятельности каждого родителя с каждым ребенком [16; 24; 29, с. 195]. Однако данный метод эксперты часто игнорируют либо применяют неадекватно. Причем при изложении результатов именно этого метода эксперты допускают однобокую или категорически неверную интерпретацию речевых высказываний и поведенческих проявлений родителя и ребенка.
Результаты психодиагностического исследования не всегда излагаются в логичной последовательности, нередки случаи несоблюдения уровневой организации психики. После описания результатов по каждому методу должны содержаться интегративные данные, которые часто отсутствуют либо представляют собой простой набор результатов применения тестов, что не соответствует методологии изложения результатов экспериментально-психологического исследования [17]. Заключение не может сводиться к простому перечню формально полученных, но не интегрированных в общую концепцию результатов и выписок из так называемых интерпретаторов [17, с. 6].
При отсутствии интегративной характеристики индивидуально-психологических особенностей родителя вывод по соответствующему вопросу становится громоздким. В качестве приема сокращения объема вывода эксперты прибегают к формулировке «индивидуально-психологические особенности подэкспертного описаны в исследовании», что недопустимо. Эксперт обязан дать вывод по существу вопроса или сообщить о невозможности его решения. Выводы должны быть изложены четким, ясным языком, не допускающим различных толкований, должны быть понятными для лиц, не имеющих специальных знаний. Ссылка же на исследовательскую часть допустима только в случае, «если эксперт не может сформулировать вывод без подробного описания результатов исследований, изложенных в исследовательской части и содержащих исчерпывающий ответ на поставленный вопрос»12.
По одному из дел указано, что подэкспертный Д. «как гражданин иностранного государства подписал письменное согласие на проведение психологического обследования… по методикам психологического исследования, принятым в российской психологической науке, включая методики, разработанные с учетом особенностей российского менталитета, на русском языке. Его обследование проводилось в присутствии и с помощью переводчика». Вместе с тем принципиально невозможно применять русскоязычные версии психодиагностических методик в отношении лиц, не владеющих русским языком. Перевод на иностранный язык вопросов и заданий психодиагностических тестов либо перевод ответов подэкспертного с иностранного языка искажает психологическую информацию и неминуемо обусловливает ненадежность и недостоверность результатов. Использованные экспертами методики адаптированы и стандартизированы на русскоязычной выборке и не могут использоваться в отношении граждан других государств, не владеющих русским языком и не проживающих в России.
В практике встречаются случаи проведения экспертизы на дому по месту жительства детей и родителей. Так, например, по делу Д. «оценка отношений между отцом и детьми» проводилась экспертом «методом включенного наблюдения», из описания которого следует, что эксперт находилась дома у отца в то время, когда дети днем спали, после чего присутствовала при их пробуждении и полднике. Учитывая тот факт, что такой метод не применялся в отношении материнско-детских отношений, это ставит под сомнение объективность и нейтральность эксперта.
По делу В. эксперты-психологи также проводили обследование ребенка на дому, при этом в заключении об индивидуально-психологических особенностях ребенка и его психическом развитии сослались на данные беседы с гувернанткой ребенка, его няней и поварихой, тем самым нарушив ч. 2 ст. 85 ГПК РФ, в которой указано, что «эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы».
Таким образом, наиболее существенные экспертные ошибки касаются решения вопросов, выходящих за пределы специальных знаний, с неправомерным в рамках производства судебной экспертизы вторжением в юридическую и медицинскую (в том числе психиатрическую) сферы знаний. В качестве методической основы недопустимо применение устаревших либо ненадежных методик, так как это лишает результаты достоверности. Многие ошибки относятся к процессу организации и производства экспертизы, касаются понимания процессуальных прав и обязанностей эксперта.
Выводы
Требование строгой научной и практической основы проводимых судебным экспертом исследований ставит заключение эксперта в ряд доказательств особой природы — основанных на данных науки, что повышает к нему доверие со стороны суда. В силу подлежащих доказыванию фактов, важных для принятия решения по делу, заключение эксперта приобретает особое значение и может существенно повлиять на формирование внутреннего убеждения суда. В связи с этим экспертные ошибки могут иметь серьезные последствия в части нарушения прав граждан — и особенно прав и интересов детей.
Экспертным ошибкам и оценке заключения эксперта посвящено множество научных работ, необходимых не только экспертам в процессе профессиональной подготовки, но и участникам процесса при оценке заключения эксперта [1; 4; 7; 8; 10; 15; 31]. Авторы данных трудов солидарны в том, что к числу наиболее часто допускаемых экспертами ошибок относятся процессуальные нарушения, нарушения научной методологии, выход за пределы компетенции эксперта и нарушение этических принципов.
Продолжая изучение данной проблематики, в рамках настоящего исследования нами выявлены и проанализированы типичные экспертные ошибки при производстве судебной психологической экспертизы по делам, связанным со спорами о воспитании детей. Результаты исследования показали прежнюю актуальность проблемы, отсутствие каких-либо значимых подвижек в части минимизации экспертных ошибок при производстве судебных экспертиз по данной чрезвычайно сложной категории дел. В число наиболее частых ошибок входит и неверное определение вида экспертизы, неверная постановка экспертных задач, и ненадлежащий субъект судебно-экспертной деятельности, и ненадлежащая методология, не соответствующая современному состоянию СПЭ. По-прежнему широко распространенными ошибками являются: выход эксперта за пределы научной и процессуальной компетенции, неполнота исследования, применение невалидных методов и методик исследования.
Неуклонно растет и число так называемых частных экспертов, получающих сомнительные сертификаты и не имеющих профессиональных компетенций для осуществления судебно-экспертной деятельности. Позиционируя себя «независимыми сертифицированными экспертами с лицензией», они нередко вызывают доверие и расположение суда, что ведет к некритичному отношению к их профессиональной компетенции и, как следствие, к весьма трагичным последствиям, касающимся интересов детей. При выявлении грубых процессуальных и методологических ошибок у экспертов с такими «сертификатами» в целях повышения уровня их ответственности должен ставиться вопрос о сознательном и целенаправленном игнорировании или умалчивании экспертом при производстве экспертизы существенных фактов, умышленно неверном применении или выборе методик экспертного исследования и неправильной их оценки.
Острота многих из перечисленных проблем может быть существенно снижена после принятия Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», проект которого прошел первое чтение в Государственной думе еще в 2013 году. В законопроекте указано, что негосударственный судебный эксперт должен иметь высшее образование, иметь дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности, а также иметь действующий сертификат компетентности, полученный в порядке, предусмотренном федеральным законом, и быть включенным в государственный реестр судебных экспертов.
Сноски
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (с изм. и доп.). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 30.06.2020).
2 Обзор судебной практики ВС РФ №4 (2015) (утв. Президиумом ВС РФ 23.12.2015) (ред. от 26.04.2017). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192264/ (дата обращения: 30.06.2020).
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 31.07.2020). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 30.06.2020).
4 Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». http://ivo.garant.ru/#/document/12123142 (дата обращения: 30.06.2020).
5 Приказ Минюста России от 27.12.2012 №237 (https:// minjust-prikaz.consultant.ru/documents/4577) с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 29.06.2016 №150 (http://sudexpert.ru/norms/pr_150.pdf ), от 19.09.2017 №169 (http://sudexpert.ru/norms/pr_169.pdf), от 13.09.2018 №187 (http://sudexpert.ru/norms/prikaz_187.pdf)
6 Закон РФ от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (ред. от 19.07.2018). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/
7 ГОСТ Р 57344-2016. Судебно-психологическая экспертиза. Термины и определения // Каталог национальных стандартов. https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational (дата обращения: 30.06.2020).
8 См.: Приказ Минздрава России от 12.01.2017 №3н «Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы». https://minjust.consultant.ru/documents/22843 (дата обращения: 29.06.2020); Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных СЭУ системы Минюста России (утв. приказом министра юстиции №346 от 20.12.2002). https://base.garant.ru/12144797/ (дата обращения: 30.06.2020); Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки по экспертной специальности 20.1. «Исследование психологии человека» (РФЦСЭ, 2018).
9 Психологическое индуцирование — один из наиболее частых механизмов формирования у детей негативного отношения к родителю, которое может осуществляться в различных формах — от отражения ребенком мнений и оценок значимых взрослых до активного настраивания ребенка взрослым [15, с. 115].
10 Индивидуально-типологический детский опросник.
11 Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки по экспертной специальности 20.1. «Исследование психологии человека». М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2018; Приказ Минздрава России от 12.01.2017 №3н «Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы». https://base.garant.ru/71622294/ (дата обращения: 29.06.2020).
12 См., например, п. 2.5 «Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации», утвержденных приказом Минюста России №346 от 20.12.2002. https://legalacts.ru/doc/prikaz-miniusta-rf-ot-20122002-n-346/#100008 (дата обращения: 23.06.2020).
Литература
- Русаковская О.А., Сафуанов Ф.С., Харитонова Н.К. Актуальные вопросы участия специалистов в судебных спорах о воспитании детей раздельно проживающими родителями // Психология и право. 2011. Т. 1. № 1. https://psyjournals.ru/psyandlaw/2011/ n1/39325.shtml
- Судебная экспертиза: типичные ошибки / Под ред. Е.Р. Россинской. М.: Проспект, 2012. 544 с.
- Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. М.: Гардарика, Смысл, 1998. 192 с.
- Терехина С.А., Ошевский Д.С. Проблема использования психологических познаний при решении семейных споров о детях в гражданском судопроизводстве // Психология и право. 2018. Т. 8. № 2. С. 152–163. https://doi.org/10.17759/psylaw.2018080212
- Смирнова С.А. Вызовы времени и экспертные технологии правоприменения. Мультимодальное издание «Судебная экспертиза: перезагрузка». Ч. 1. М.: Эком, 2012. 656 с.
- Кузьмин С.А. Современные модели менеджмента качества в судебно-экспертной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы. 2016. № 3 (43). С. 8–27. https:// doi.org/10.30764/64/1819-2785-2016-3-18-27
- Секераж Т.Н. Экспертные ошибки при производстве судебной психологической экспертизы / Судебная экспертиза: типичные ошибки / Под ред. Е.Р. Россинской. М.: Проспект, 2012. С. 183–225.
- Васкэ Е.В., Сафуанов Ф.С., Секераж Т.Н. Почему психолого-педагогическая экспертиза по спорам, связанным с воспитанием детей, не отвечает потребностям правосудия // Теория и практика судебной экспертизы. 2020. Т. 15. № 1. С. 6–19. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2020-1-6-19
- Фесенкова Л.В., Шаталов А.Т. Мировоззренческий и научный статус валеологии (к проблеме построения общей теории здоровья) / Философия здоровья / Под ред. А.Т. Шаталова. М.: Ин-т философии РАН, 2001. С. 110–128.
- Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2014. 421 с.
- Zimmerman J., Hess A.K., McGarrah N.A., Benjamin G.A.H., Ally G.A., Gollan J.K., KaserBoyd N. Ethical and Professional Considerations in Divorce and Child Custody Cases // Professional Psychology: Research and Practice. 2009. Vol. 40. No. 6. P. 539–549. https://doi.org/10.1037/a0017853
- Сафуанов Ф.С. Этические проблемы использования психологических знаний в судопроизводстве в непроцессуальных формах // Психология и право. 2014. Т. 4. № 4. С. 79–87. https://psyjournals.ru/psyandlaw/2014/n4/73024.html
- Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. М.: Городец, 2006. 192 с.
- Основы судебной экспертизы. Часть 1. Общая теория / Под ред. Ю.Г. Корухова. М.: РФЦСЭ, 1997. 430 с.
- Сафуанов Ф.С., Харитонова Н.К., Русаковская О.А. Психолого-психиатрическая экспертиза по судебным спорам между родителями о воспитании и месте жительства ребенка. М.: Генезис, 2012. 192 с.
- Харитонова Н.К., Сафуанов Ф.С., Вострокнутов Н.В., Русаковская О.А. Методологические основы проведения комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз при спорах о праве на воспитание детей // Теория и практика судебной экспертизы. 2014. № 3 (35). С. 93–106.
- Кудрявцев И.А., Морозова М.В., Савина О.Ф. Руководство по написанию заключения экспериментально-психологического исследования подэкспертного при проведении однородных судебно-психиатрических и комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз. Руководство для врачей. М.: ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2014. 67 с.
- Encarnación E., Pelaez P., Merchan R. La Custodia Compartida un Paliativo al Aíndrome de Alienación Parental // Revista Conrado. 2020. No. 16 (73). P. 434–441.
- Lopez T., Iglesias V., Garcia P. Parental Alienation Gradient: Strategies for a Syndrome // American Journal of Family Therapy. 2014. Vol. 42. No. 3. P. 217–231. https://doi.org/10.1080/01926187.2013.820116
- Moon D., Lee M., Chung D., Kwack Y. Custody Evaluation in High-conflict Situations Focused on Domestic Violence and Parental Alienation Syndrome // Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 2020. Vol. 31. No. 2. P. 66–73. https://doi.org/10.5765/jkacap.200004
- Bernet W., von Boch-Galhau W., Baker A.J.L., Morrison S.L. Parental Alienation, DSM-V, and ICD-11 // The American Journal of Family Therapy. 2010. Vol. 38. No. 2. P. 76–187. https://doi.org/10.1080/01926180903586583
- Сафуанов Ф.С., Калашникова А.С., Переправина Ю.О., Черненьков А.Д. Методологические основы диагностики психологического индуцирования ребенка при производстве комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы по делам о защите интересов детей. Методические рекомендации. М.: ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2020. 36 с.
- Crittenden P. Gifts from Mary Ainsworth and John Bowlby // Clinical Child Psychology and Psychiatry. 2017. Vol. 22. No. 3. P. 436–442. https://doi.org/10.1177/1359104517716214
- Харитонова Н.К., Русаковская О.А. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза по спорам о порядке воспитания детей родителями, проживающими раздельно / Судебно-психиатрическая диагностика / Под ред. Е.В. Макушкина, А.А. Ткаченко. М.: ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2017. С. 601–625.
- Русаковская О.А., Ильина О.Ю. Понимание «привязанности» наивными носителями языка, судьями и судебно-психологическими экспертами / Коченовские чтения «Психология и право в современной России». Сб. тезисов участников Всерос. конф. по юридической психологии с международным участием (Москва, 7–9 ноября 2018 г.). М.: МГППУ, 2018. С. 104–105.
- Сафуанов Ф.С., Калашникова А.С., Переправина Ю.О., Черненьков А.Д. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по делам о защите интересов детей: диагностика психологического индуцирования ребенка // Юридическая психология. 2020. № 1. С. 22–26.
- Харитонова Н.К., Сафуанов Ф.С., Вострокнутов Н.В., Русаковская О.А. Алгоритм комплексного психолого-психиатрического исследования по спорам о защите интересов детей. Методические рекомендации // Психическое здоровье. 2014. № 4. С. 3–15.
- Галасюк И.Н., Митина О.В. Модификация Опросника родительского отношения (А.Я. Варги, В.В. Столина) для семьи, воспитывающей особого ребенка // Клиническая и специальная психология. 2017. Т. 6. № 2. C. 109–129. https://doi.org/10.17759/psyclin.2017060209
- Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи. Учеб. пособие-практикум для студ. фак. психологии высш. учеб. заведений. 2-е изд., стереот. М.: Академия, 2007. 432 с.
- Голзицкая А.А., Кисельникова Н.В., Маркова С.В. Опросник PARI как методика исследования родительских установок // Вопросы психологии. 2018. № 3. С. 147–157.
- Сафуанов Ф.С. Ошибки при назначении комплексной судебной психолого-психиатрической и судебной психологической экспертизы // Юридическая психология. 2007. № 2. С. 19–21.
Источник: Васкэ Е.В., Сафуанов Ф.С., Секераж Т.Н. Типичные ошибки при производстве судебной экспертизы по спорам, связанным с воспитанием детей // Теория и практика судебной экспертизы. 2020. Том 15. №3. С. 60–75. DOI: 10.30764/1819-2785-2020-3-60-75
* ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией и запрещено в России. — прим. ред.

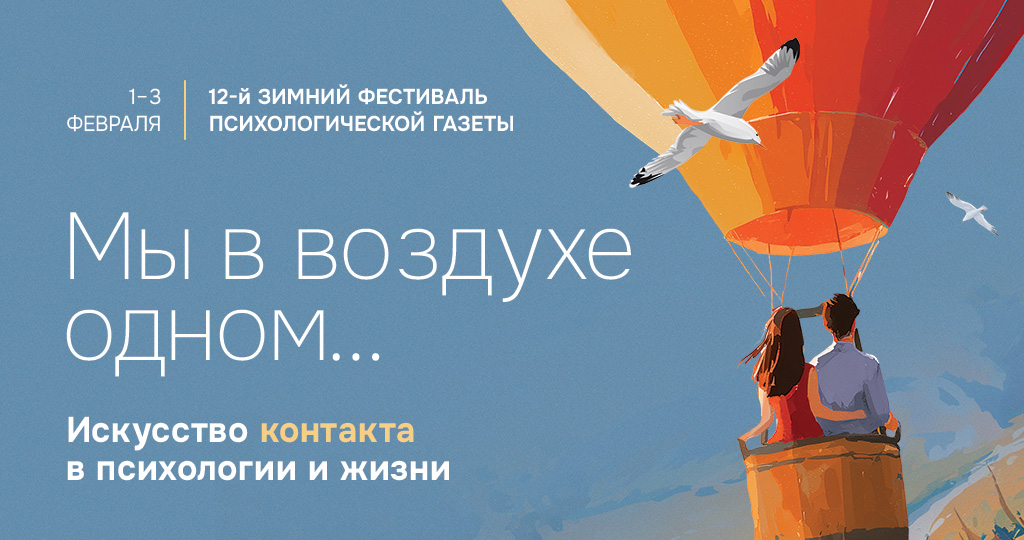





.jpg)





















































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать