
В рамках проекта «Лекторий» Московского института психоанализа состоялась дискуссия «Психоанализ, Бог и общество». Во встрече приняли участие:
- Лявас Коварскис, доктор медицины, психиатр, психоаналитик, научный руководитель факультета психоанализа НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»;
- Бруна Марци, доктор психологии, действительный член Международной ассоциации микропсихоанализа, тренинговый член Швейцарского института микропсихоанализа,
- Александр Григорьевич Асмолов, доктор психологических наук, академик РАО, профессор, заведующий кафедрой психологии личности МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель Школы антропологии будущего РАНХиГС, Московского института психоанализа и Академии потенциала человека СберУниверситета;
- Лола Эриковна Комарова, кандидат психологических наук, психоаналитик, член Международной психоаналитической ассоциации (IPA), тренинг-аналитик, экс-президент Московской группы психоаналитиков (МГП), профессор кафедры клинического психоанализа НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»;
- Владислав Викторович Ермак, кандидат психологических наук, психоаналитик, член Международной психоаналитической ассоциации (IPA), клинический (медицинский) психолог, психодраматерапевт DAGG-IAGP;
- Девран Тахирович Садык, психолог, супервизор.
В рамках мероприятия А.Г. Асмолов выступил с докладом «“Бог умер”, Ницше, век 19; “Человек умер?”, Фромм…, век 20; Кто Жив? Век 21. Психо-историческое расследование». Публикуем текст выступления.
***
Хотел бы обратиться к проблемам, за которыми стоит возможность диалога психоанализа с разными подходами, в том числе теми подходами, которые уже многие годы — с того времени, как был в Тбилиси организатором Симпозиума по бессознательному, — волнуют меня.
Название моего выступления звучит следующим образом: «Бог умер» Ницше, век 19; «Человек умер?» Фромм… (Фуко, Лакан, здесь неслучайно стоит многоточие), век 20; Кто жив? Кто сегодня решается задавать стиль и понимание интерпретации мира? Век 21…
Поэтому неслучайно на слайде вы видите классические пятна Роршаха, неслучайно название «психо-историческое расследование». Что стоит за этим? Почему психо-историческое расследование?
Мы видим проблему бога, который взирает на человечество и на которого с разных сторон многие тысячелетия взирают люди, как в одной анекдотической истории: «Бог един, провайдеры разные».
Я обращаюсь к особому жанру, который мне близок: жанру психоистории.
За этим жанром стоят великолепные работы Эрика Эриксона, создателя концепции идентичности, помогающего нам увидеть, что там, где начинается идентичность, идет растворение личности. Работы Ллойда де Моза, к которым я обратился еще в 1994 году, желая проанализировать психотипы тех личностей, которые находились в России у власти, и сделал первый анализ, пытаясь снять конфликтность и найти логику солидарности.
Среди тех, кто называет себя психоисториками, особое место занимает гениальный фантаст Айзек Азимов. Именно Азимов говорит: «Психоистория утверждает… Мы не можем остановить падения Империи… Культура Империи потеряла всякую жизненность… Но мы можем уменьшить периоды наступающего варварства».
Что такое варварство? Это уничтожение разнообразия. Поэтому, чтобы остановить падение империи, падение систем, мы как психологи, психоисторики, антропологи можем противостоять тем системам, которые убивают личность, которые убивают diversity, разнообразие.
Это и есть ключевая мотивация моего выступления: понять те исторические мотивы, которые стоят за разными подходами к пониманию конструирования мира.
Эти подходы, обратите внимание, связаны тем, что везде предлагаются моноцелевые, финалистские модели истории: может быть впереди рай, может быть впереди коммунизм, может быть впереди национал-социализм, но образ какого-то единого конца истории и связанные с ним образы поисков конца цивилизации — во многих подходах. Такой образ как стереотип живет в нашем подсознательном и нашем сознании.
Я обращаюсь к шутливому расследованию, которое бы провел Зигмунд Фрейд, вступая в диалог с разными собеседниками, обсуждающими проблему истории не только через призму его великих работ «Тотем и табу» или «Моисей»…
Среди них и Фромм, и Фуко, и Лакан, и, конечно же, Ницще, который часто неправильно понимается, который весь мир возмутил, взбесил, заявив в своих поэтических выступлениях: «Бог умер».
Вот эта формула Ницше, прозвучавшая в его, обратите внимание, «Веселой науке», на самом деле была воспринята без интерпретации: будто Ницше говорит, что Бог исчез, Бог ушел. Но именно Ницше — это наиболее детально анализирует Хайдеггер — описывает историю безумца, который в карнавале, на площади раздираемый разными людьми, бегает и кричит: «Бог умер!», а в руках у него фонарь. Ницше не называет этот фонарь. Но фонарь того, кто ищет, не случайно называется фонарь Диогена, который говорил: «Ищу человека». Ницше, говоря, что Бог умер, в этом произведении заявляет: найдите человека, поймите, где он, поймите его силы, поймите человеческое. Выйдите, чтобы понять это. Этот крик Ницше… Неслучайно Хайдеггер говорит, что это крик нигилизма, чтобы расчистить возможности разного видения мира. Вспомните Маяковского: «Я над всем, что сделано, ставлю “nihil”».
Я говорю: ищите Бога не под фонарем, ищите Бога в других системах. Ищите те силы, которые делают историю.
Обращаюсь к работе Ирвина Ялома и фильму по его книге «Когда Ницше плакал». В этом фильме воображаемая ситуация мне невероятно важна: Фрейд встречается с Ницше и пытается понять глубинную историческую мотивацию высказывания, которое потрясло мир, «Бог умер». Что за этим? За этим нигилизм, дух поиска, за этим попытка — которой потом воспользовались — создать мир, в котором приходит не Бог, а замещающий его сверхчеловек, супер-Я.
Эрих Фромм, автор гениальных работ о человеке, связанный с Франкфуртской школой, школой критического анализа, школой нигилизма, озабочен тем, что в тоталитарных системах, в которых один лишь конец мира и одна линия развития, может умереть человек. Здесь «Бегство от свободы», здесь другие его работы по садизму, мазохизму, автоматическому конформизму. Эрих Фромм вступает в диалог с Ницше как гуманистический психоаналитик. В работе «Здоровое общество» он говорит: «В XIX в. проблема состояла в том, что Бог мертв; в XX — проблема в том, что мертв человек».
А что пришло на смену человека? Об этом яснее всего говорит Мишель Фуко, начинавший как психолог, а ставший одним из величайших философов 20 века.
Я неслучайно взял образ человека Леонардо, чтобы проиллюстрировать, как Фуко выступает как структуралист против антропоцентризма и простых схем понимания, в чем природа человека, его мотивы, его страсти. Именно Фуко бросает вызов тоталитарным системам, говоря, что в тоталитарных системах стирается человек, исчезает его лицо, что в тоталитарных системах субъект прячется и уходит на задний план.
Еще один гений, который во многих своих выступлениях вел диалог с Зигмундом Фрейдом, — Виктор Франкл. В его работах идет мягкая, интеллигентная полемика с психоанализом, в том числе в его работе «Человек в поисках смысла» (недавно переведенной в России благодаря Дмитрию Леонтьеву) подсознательный Бог — психотерапия и религия.
Я взял один из тезисов этого произведения: «За “Сверх-Я” человека стоит не “Я” сверхчеловека… Скорее, за совестью стоит “Ты” Бога».
Что за этими диалогами? За этими диалогами все время идущая через наш век идея конца определенности как конца света. Когда мир кончается, когда неизвестно, кто его строит и конструирует, появляются пророки Апокалипсиса, которые говорят: «Завтра конец истории, конец цивилизации». А на самом деле это конец монологического, финалистского, жестко детерминистского понимания природы мира, эволюции и человека.
Мы видим, что преобладает модель конфликта, как двигатель истории — битва за выживание.
И здесь мы обращаемся для оправдания братоубийственных войн к Богу, вспомните «Двенадцать» А. Блока.
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!
Для чего только ни зовут Бога: чтобы оправдать свои бессовестные поступки, за которыми — падение нравственности.
Мы сталкиваемся с мономоделями конструирования кризиса. За ними — закрытое сознание, создание черно-белой картины мира, поиск врагов, упрощение, фундаментализм, фанатизм, терроризм.
Мы еще верим, что технологии будут средствами спасения человечества, и что технологии и искусственный интеллект как новый Бог, в которого его разработчики вдыхают душу. Мы видим, что они любят этот искусственный интеллект — вспомните «Пигмалион» — и наделяют его душой. Они создают новую программу конфликта между разумом человека, который они не понимают в связи с его сложностью и разнообразием, и искусственным интеллектом. Не сотвори себе кумира… в том числе и из искусственного интеллекта.
Мы должны помнить, что в тоталитарных системах, где умер человек, проявляются все характеристики, описанные Фрейдом, характеристики бессознательного — непроницаемость сознания и нечувствительность к противоречиям. Мы долгое время октябрятами носили значок, на котором был изображен кудрявый мальчик, но, когда нас спрашивали, кто это на значке, мы отвечали, не видя противоречий: «Дедушка Ленин». Вот оно, фанатическое, одномерное сознание…
В фанатических системах всегда работает метемпсихоз, вера в переселение душ. Сталин — это Ленин сегодня! Психоаналитик мог бы удивленно посмотреть на это. Этот феномен происходит именно в тоталитарных мирах, где гибнет личность и остается только государственная идентичность.
И здесь мы видим двоемыслие. Мы не говорим, мы прячем свои мысли. Говорим часто эзоповым языком. Двоемыслие как индикатор архетипа «вручения себя», который описал Ю.М. Лотман, прибегнув к конструкциям Юнга. В нашем мире сегодня мы все время что-то говорим, а что-то подразумеваем.
Бруно Беттельгейм написал книгу «Психологическая привлекательность тоталитаризма». Мы говорим о привлекательности тоталитаризма как выигрышной стратегии в рамках архетипа «вручения себя».
И в этой ситуации работают защитные механизмы сознания: «Авось, пронесет! Это будет не со мной, это будет с другими».
И в этой ситуации работает стратегия алармизма. «Революция обманутых надежд», о которой писал Эрих Фромм. Выученная беспомощность мастера позитивной психологии Мартина Селигмана.
И в этой ситуации работают стратегии «закрытого» и «открытого» сознания. Тревога — и всё стремится к черно-белому видению мира, без оттенков, когнитивная сложность равна нулю, а царствует когнитивная простота.
И в этой ситуации среди психологов появляются те, о которых говорил Фромм, критикуя Хаббарда: мастера конвейера искусственного счастья. Не психологи, а кукловоды, которые насытили мир психологическим фастфудом. Как Хаббард, как Карнеги. В отличие от Фромма, в отличие от Франкла.
И в этой ситуации может исчезнуть то вещество, которое Ольга Седакова называла «вещество человечности». Об этом пишет Виктор Пелевин в замечательной работе «Зомбификация. Опыт сравнительной антропологии». Об этом пишет Мишель Уэльбек в книге «Покорность». Об этом пишет Милан Кундера в «Торжестве незначительности».
И в этих ситуациях появляются новые иллюзии. Это эпидемия лидерства. Люди говорят: «Лидером будешь?» И появляется эпоха выгорающих супергероев. Саморазвитие превращается в культ погони за счастьем.
Во всех этих ситуациях человек человеку кто?... Что за этим стоит?
И ответ на этот вопрос я ищу в психоистории.
И говорю, что именно антропология — ключ к разгадке Человека в зеркале иных культур и коммуникаций, обретение зоркости к пониманию собственного Я на «Планете людей» (Антуан де Сент-Экзюпери).
Гёте говорил: «…великий закон, проходящий через всю жизнь, более того — являющийся основой всей жизни и всех её радостей, — закон затребованного разнообразия».
Эта идея сбивает моноцентристские, финалистские проекты, понимая, что человек — это всегда незавершающийся проект эволюции.
И в этой ситуации, как говорил Л.С. Выготский, мы должны от систем перейти к судьбам.
При понимании сложности мира должен быть ценностный императив, торжество разнообразия, толерантности, мультикультурализма, диалога между культурами.
Я опираюсь на работы, которые идут вслед за Гёте. Вначале было дело, вот ключевой подход к миру. Мы говорим, что человек порождается системами и меняет эти системы.
Неслучайно работа одного из моих любимых учителей А.Р. Лурии начиналась со слов, которые наиболее точно приведены на английском: The Making of Mind — порождение разума, порождение сознания, порождение бессознательного.
Появляются уникальные работы, которые противостоят финалистским моделям сотворения мира, человека и общества. Это работа Выготского «Разум в обществе», работа Энгестрема «Concept Formation in the Wild», блистательная работа в Оксфорде «Сверхразнообразие» («Superdiversuty»).
Помните, Франкл говорил с Богом на ты. Я бы хотел вспомнить уникальное произведение Булата Окуджавы «Молитва».
Пока Земля еще вертится,
пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
чего у него нет:
мудрому дай голову,
трусливому дай коня,
дай счастливому денег…
И не забудь про меня.
Пока Земля еще вертится —
Господи, твоя власть! —
дай рвущемуся к власти
навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние…
И не забудь про меня.
Я знаю: ты все умеешь,
я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,
как верит каждое ухо
тихим речам твоим,
как веруем и мы сами,
не ведая, что творим!
Господи мой Боже,
зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
и это ей странно самой,
пока ей еще хватает
времени и огня,
дай же ты всем понемногу…
И не забудь про меня.
Земля еще вертится. И мы, антропологи, психологи, психоисторики, психоаналитики, найдем смыслы, чтоб сделать так, чтобы сложность человека, понимание мира человека, достоинство человека стали самым главным.
В завершение выступления скажу, что скоро выйдет моя книга «Психология достоинства. Искусство быть человеком». И слова Булата Окуджавы звучат в моем сердце. Есть надежда, есть сила, и эта сила и надежда — в тех, кто обращается к нам и для кого мы будем действовать, чтобы достоинство стало миром вокруг нас. И главное — внутри каждого из нас.


.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
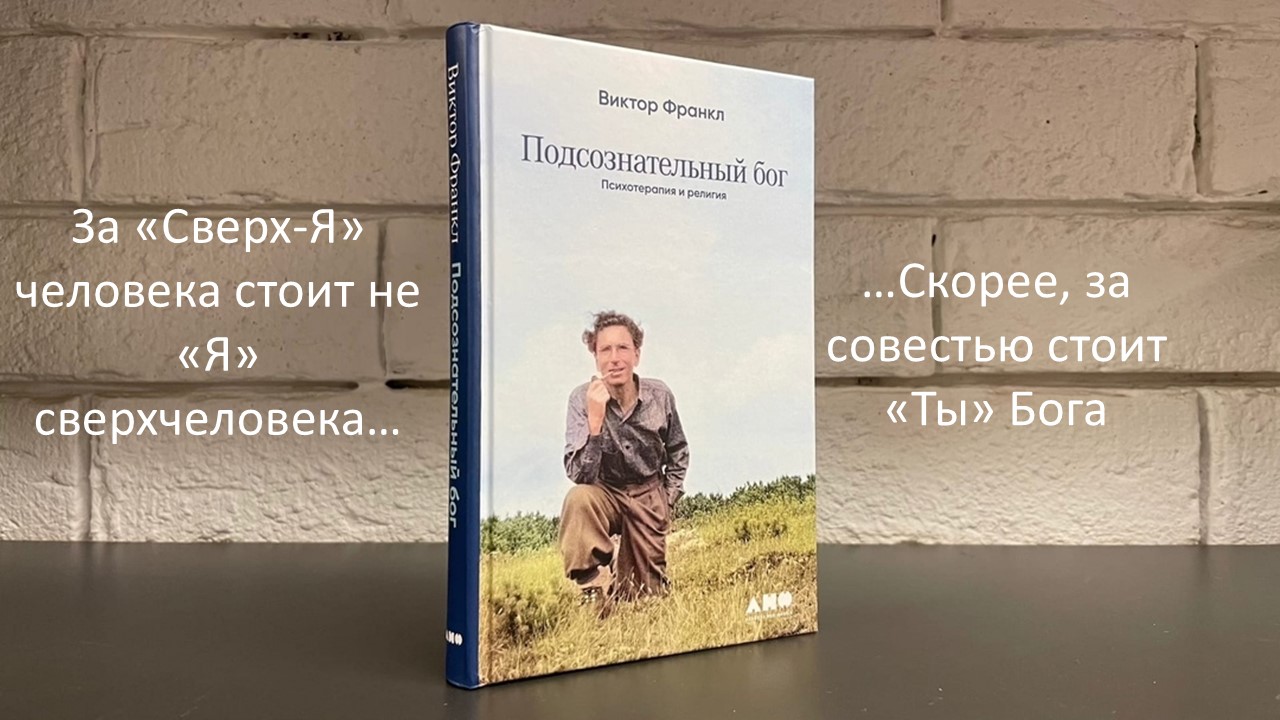
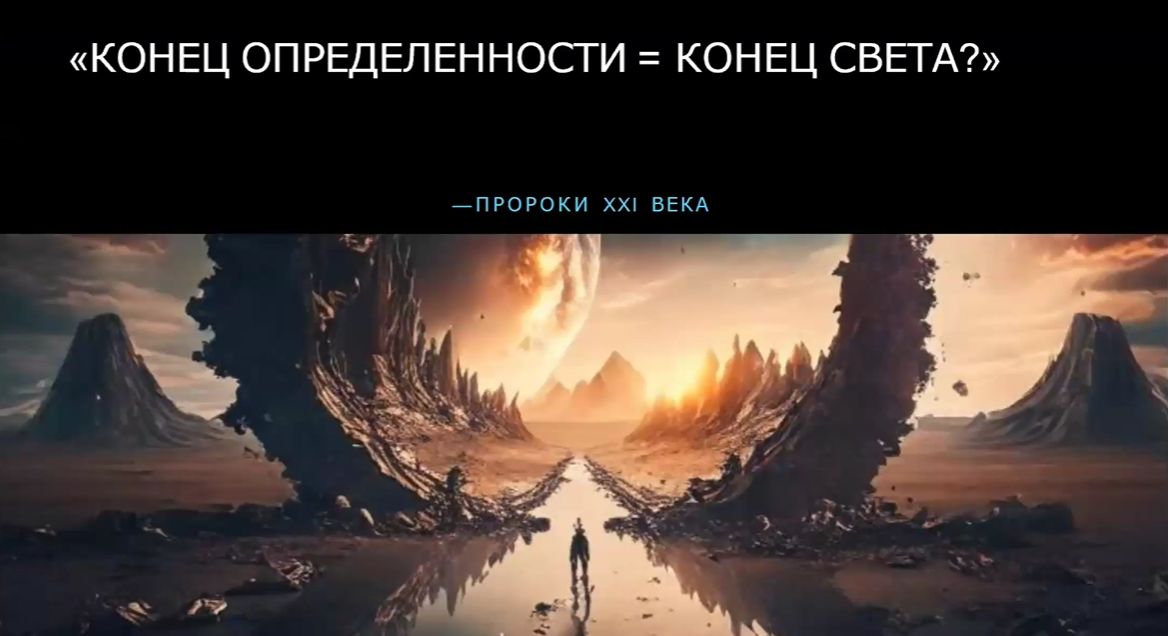
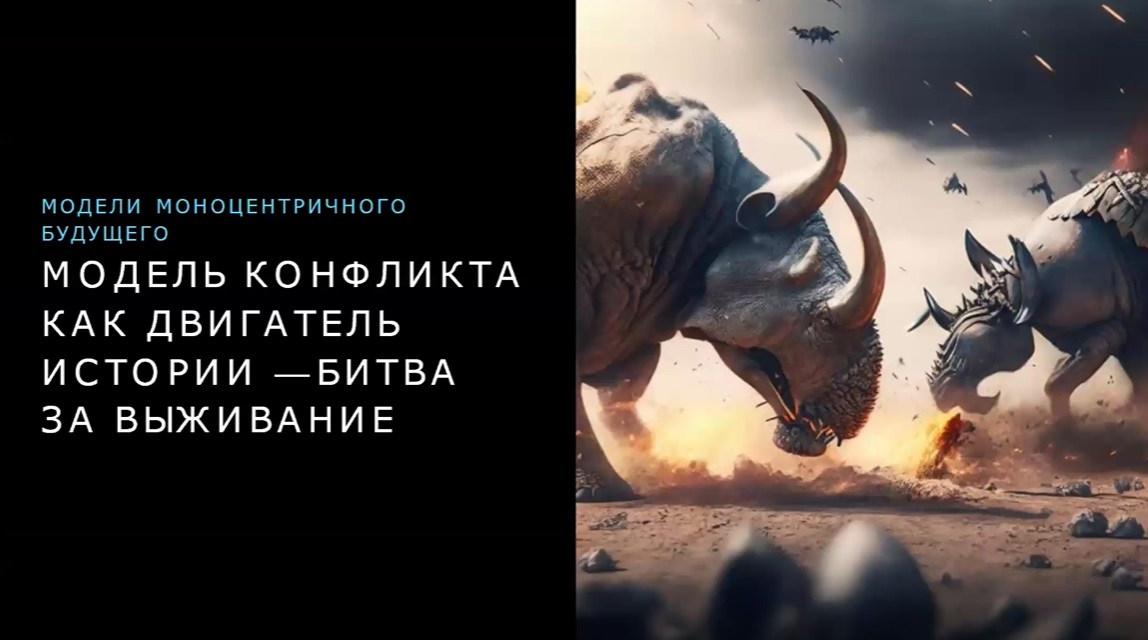
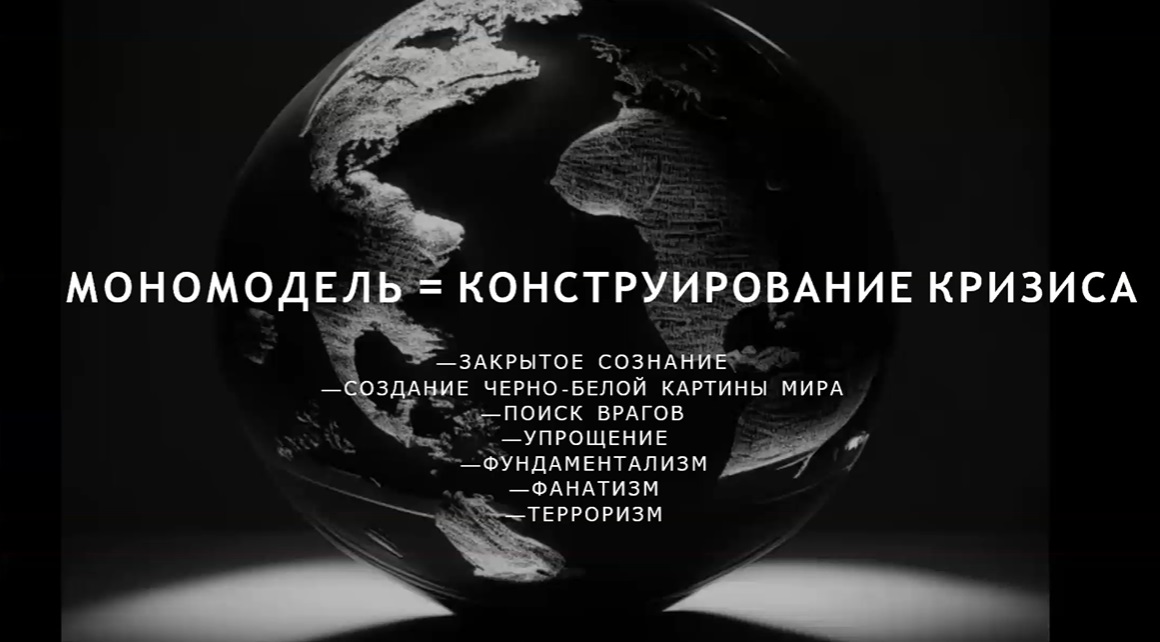


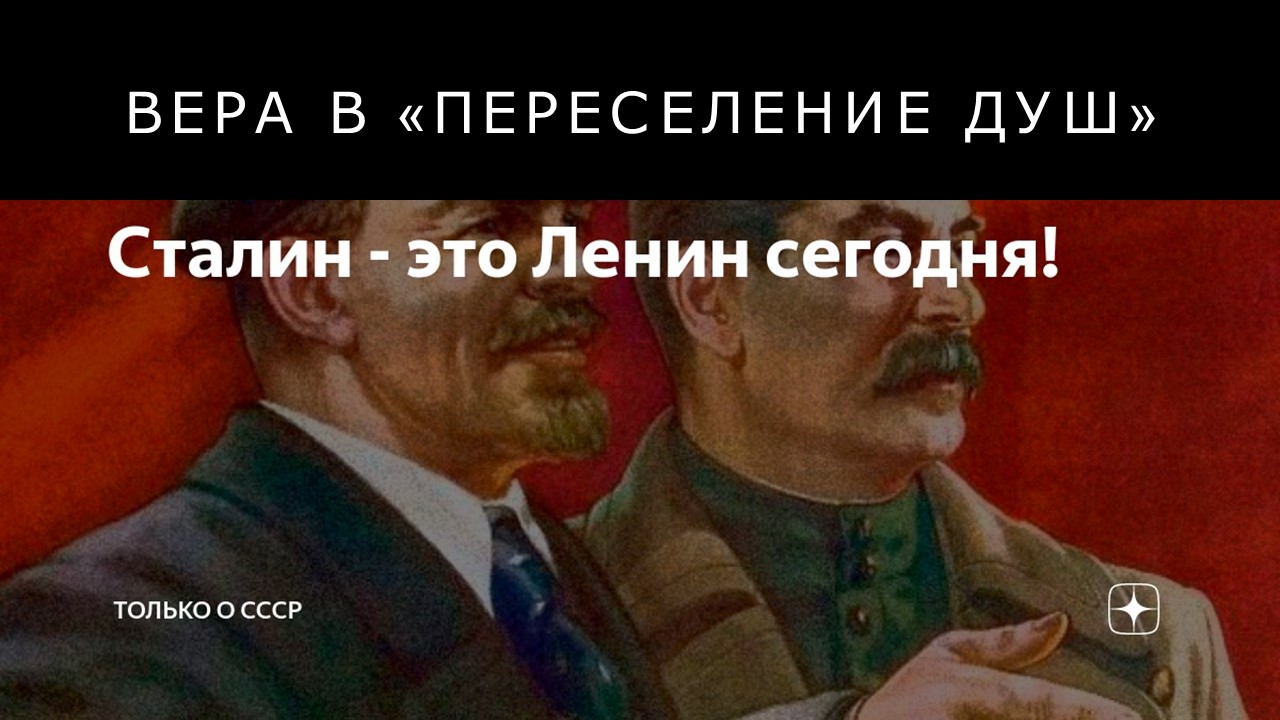
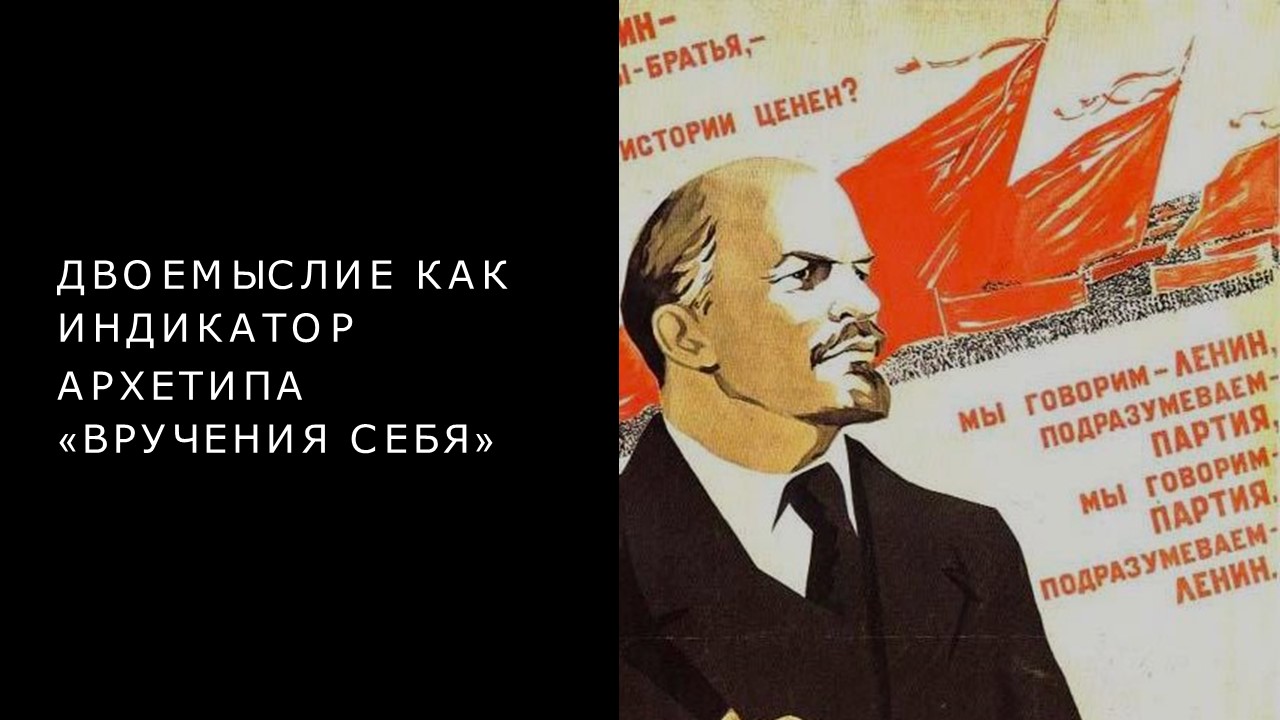
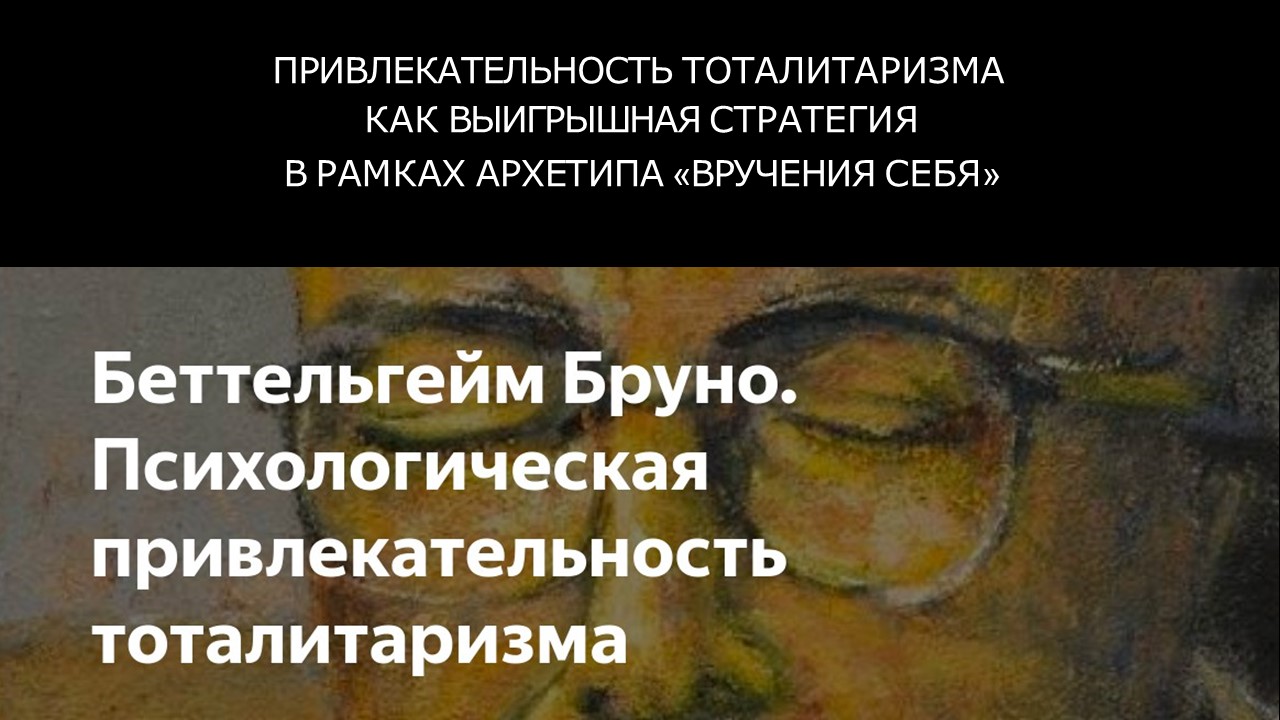
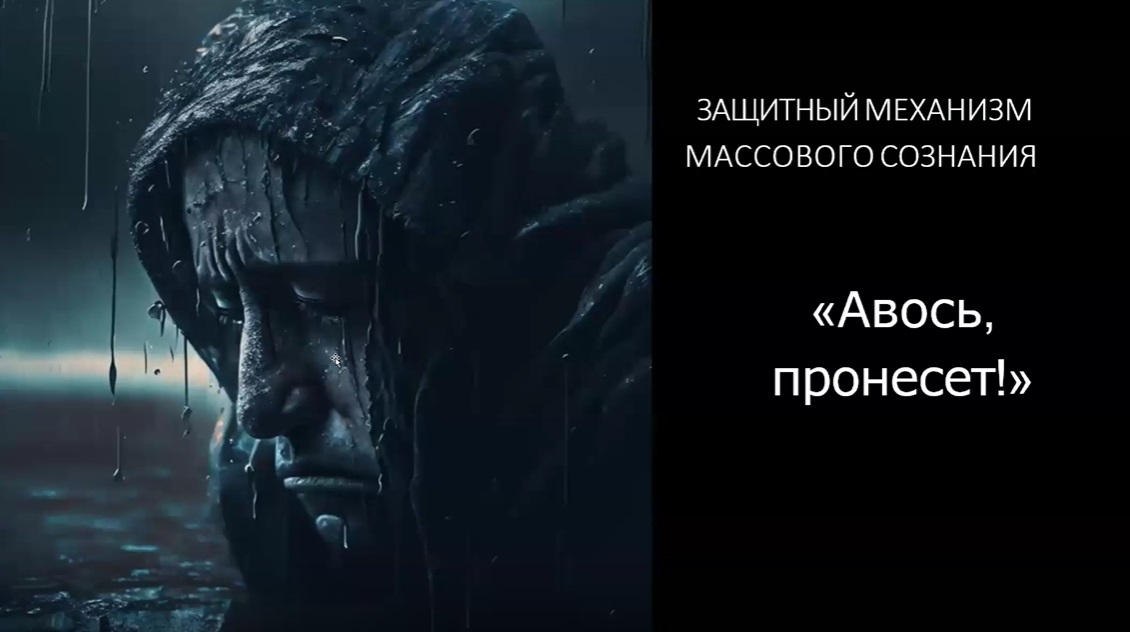
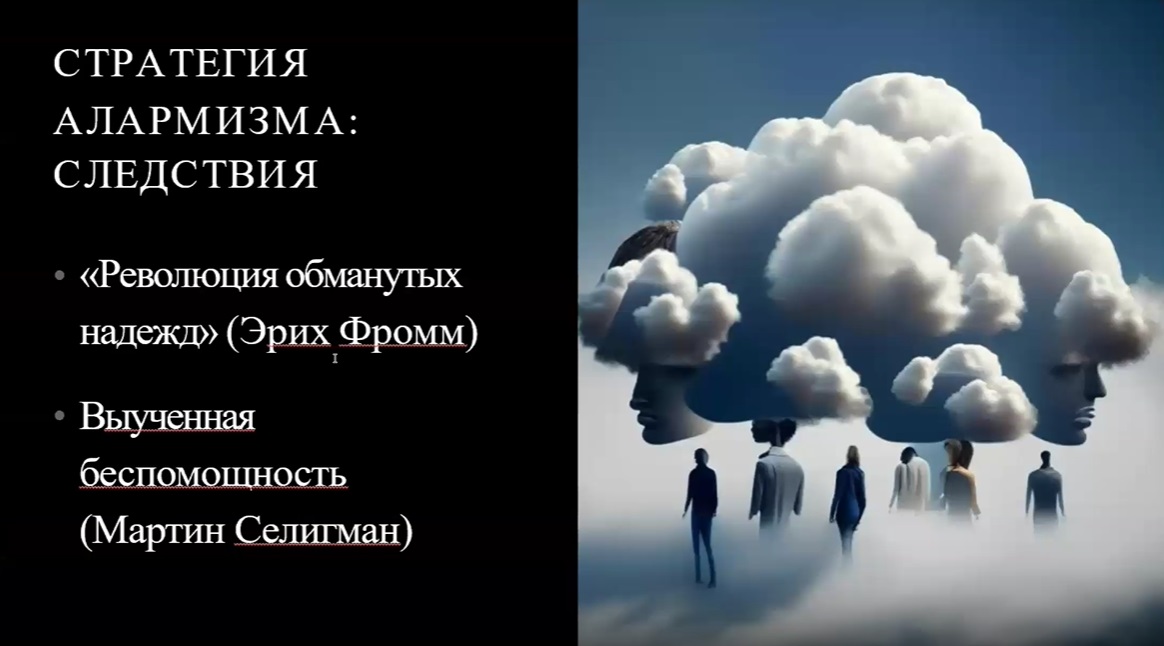
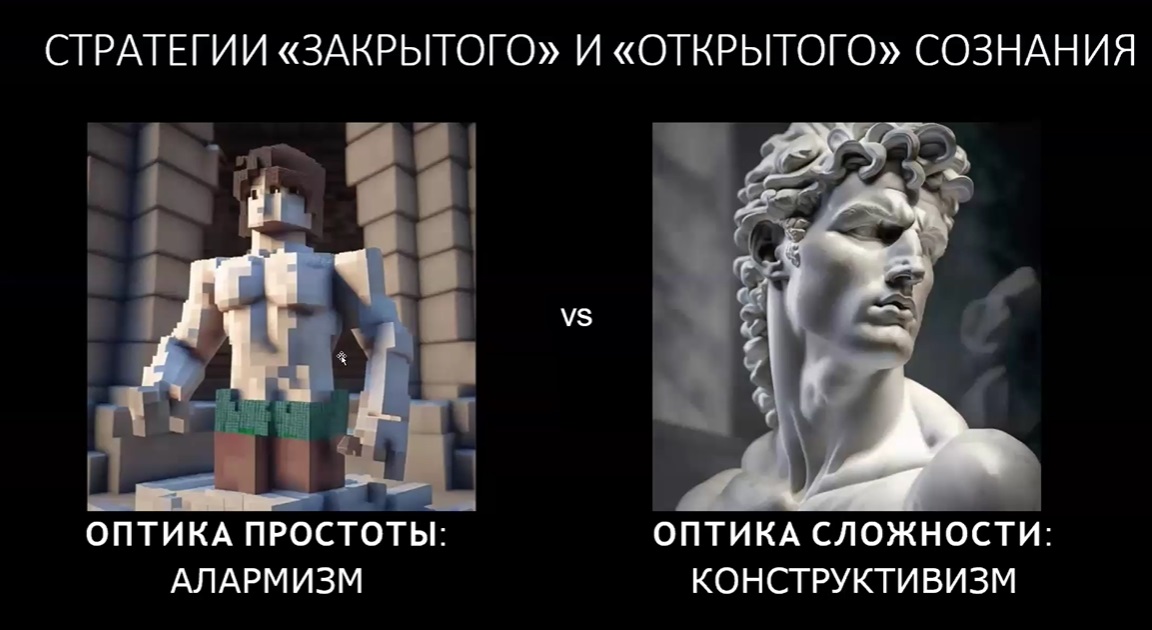
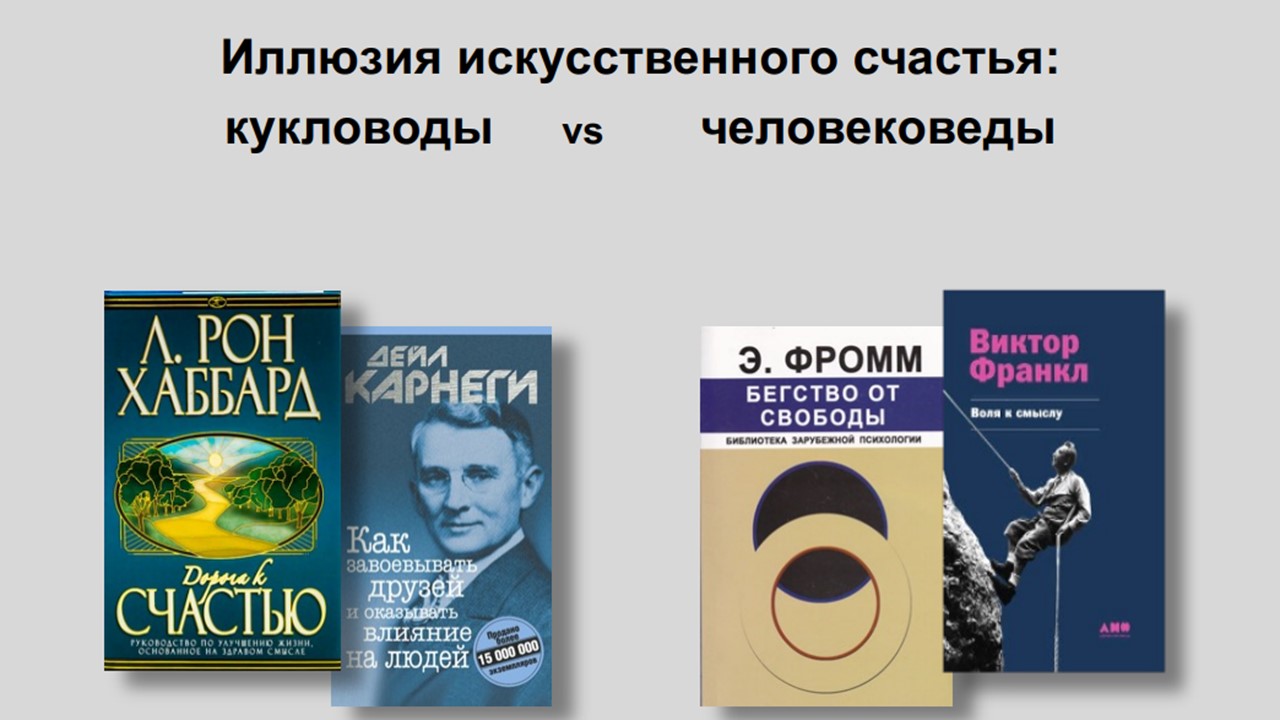
.JPG)
.JPG)

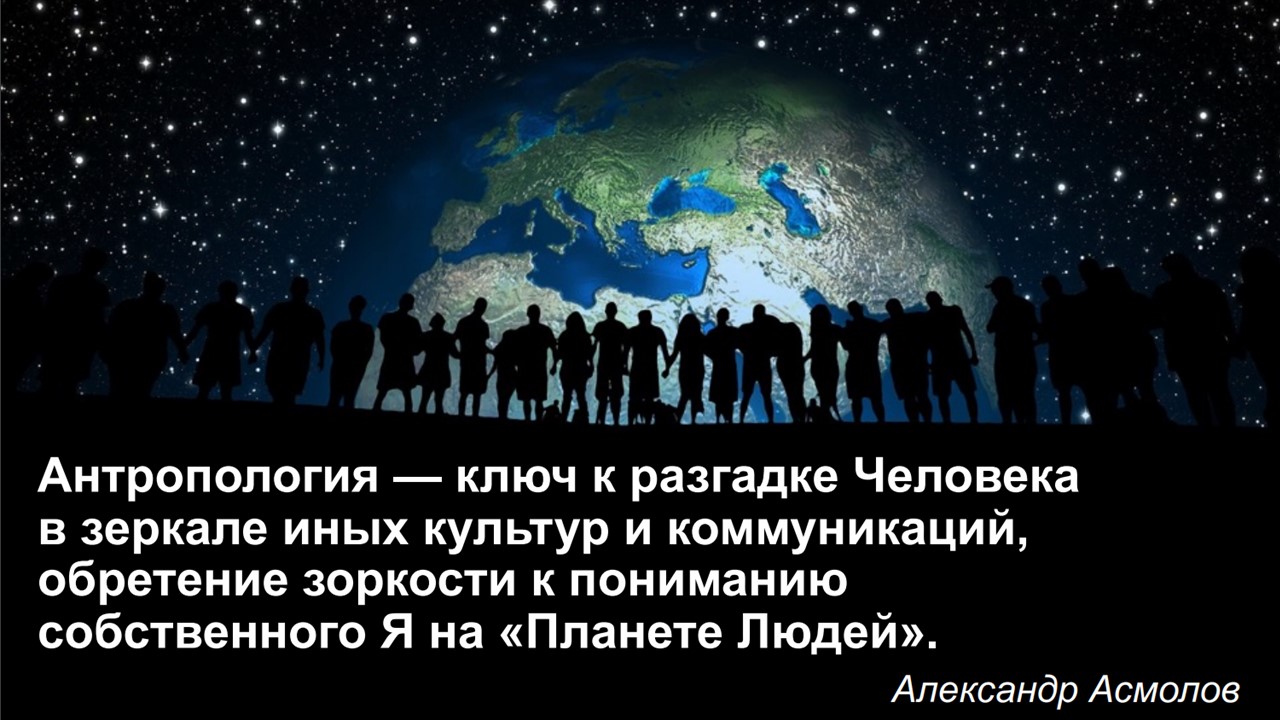
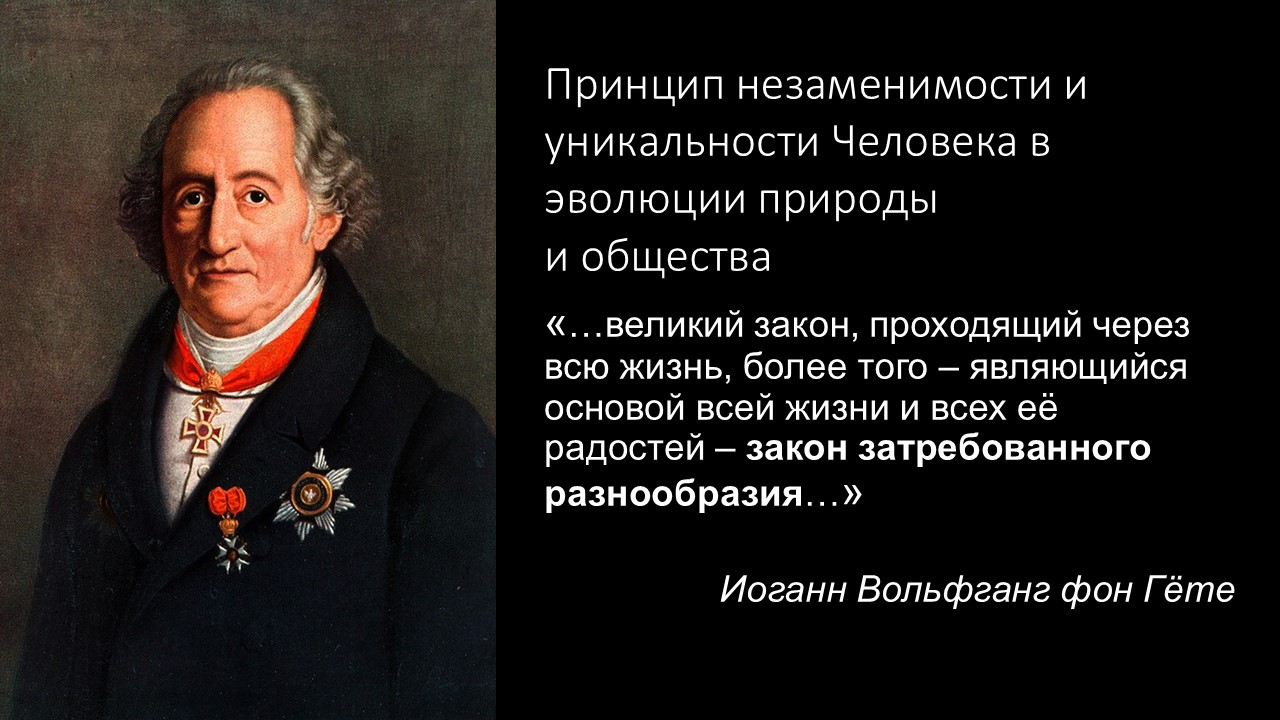
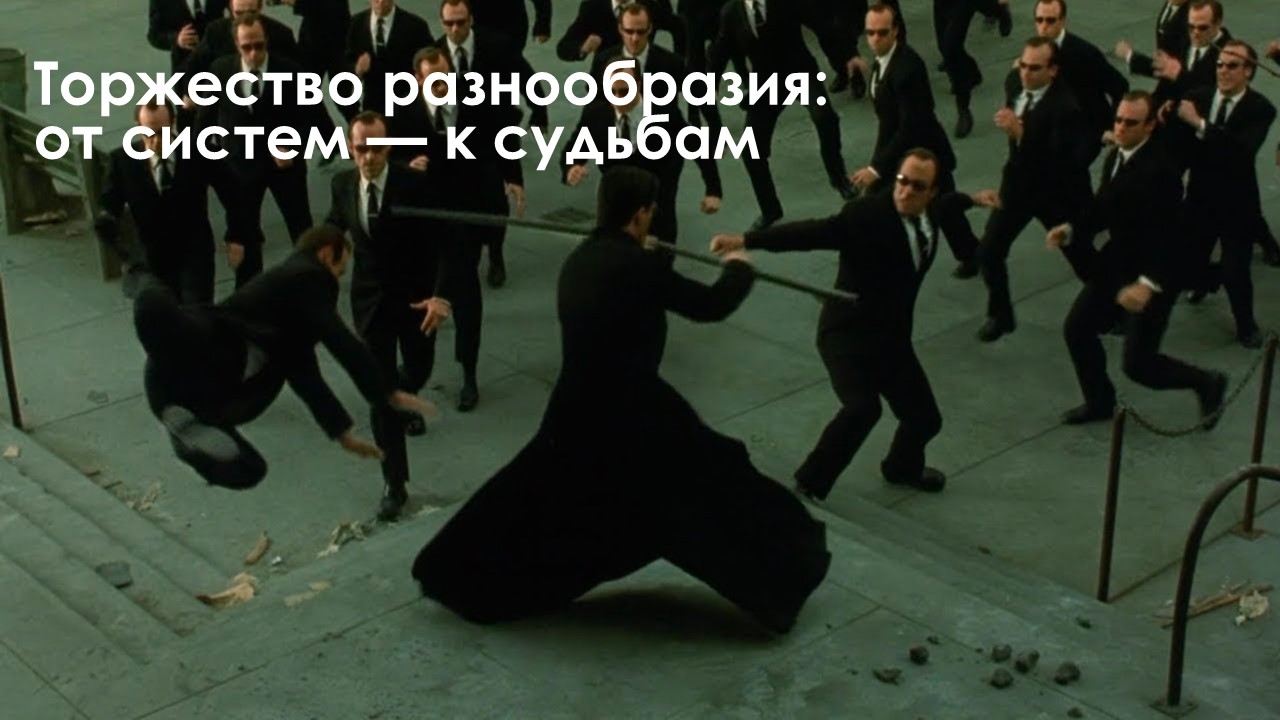
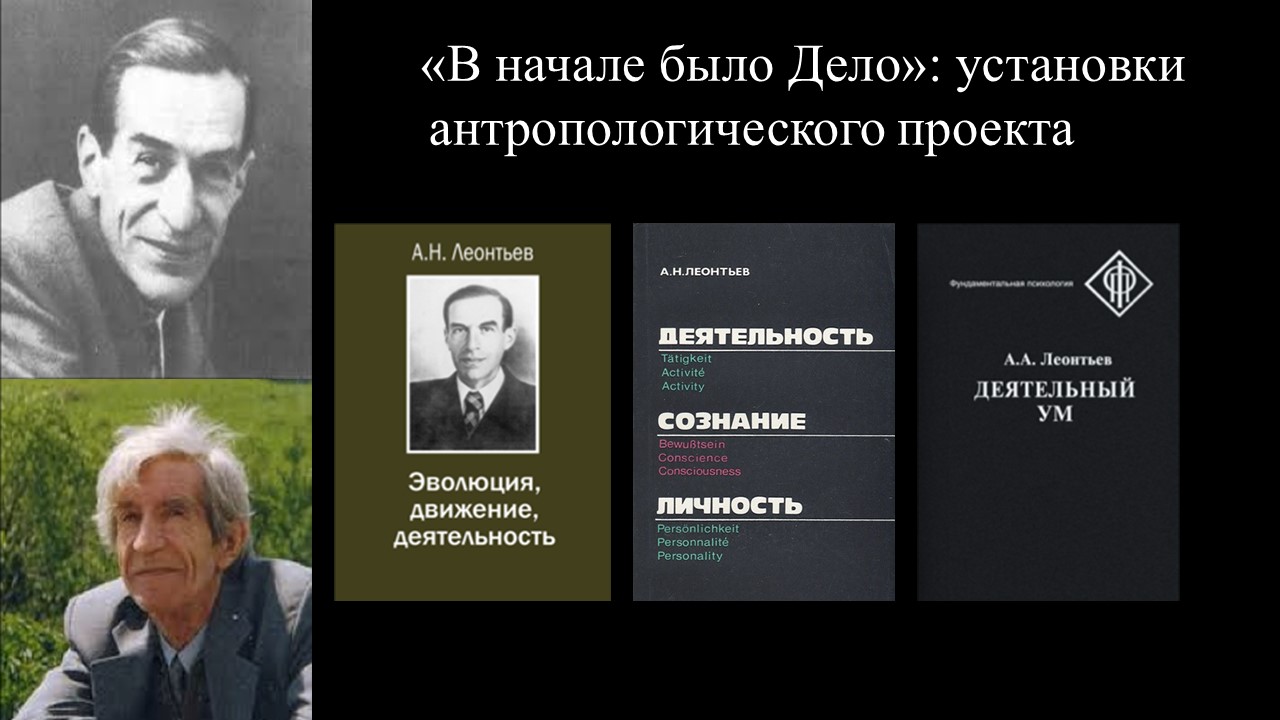
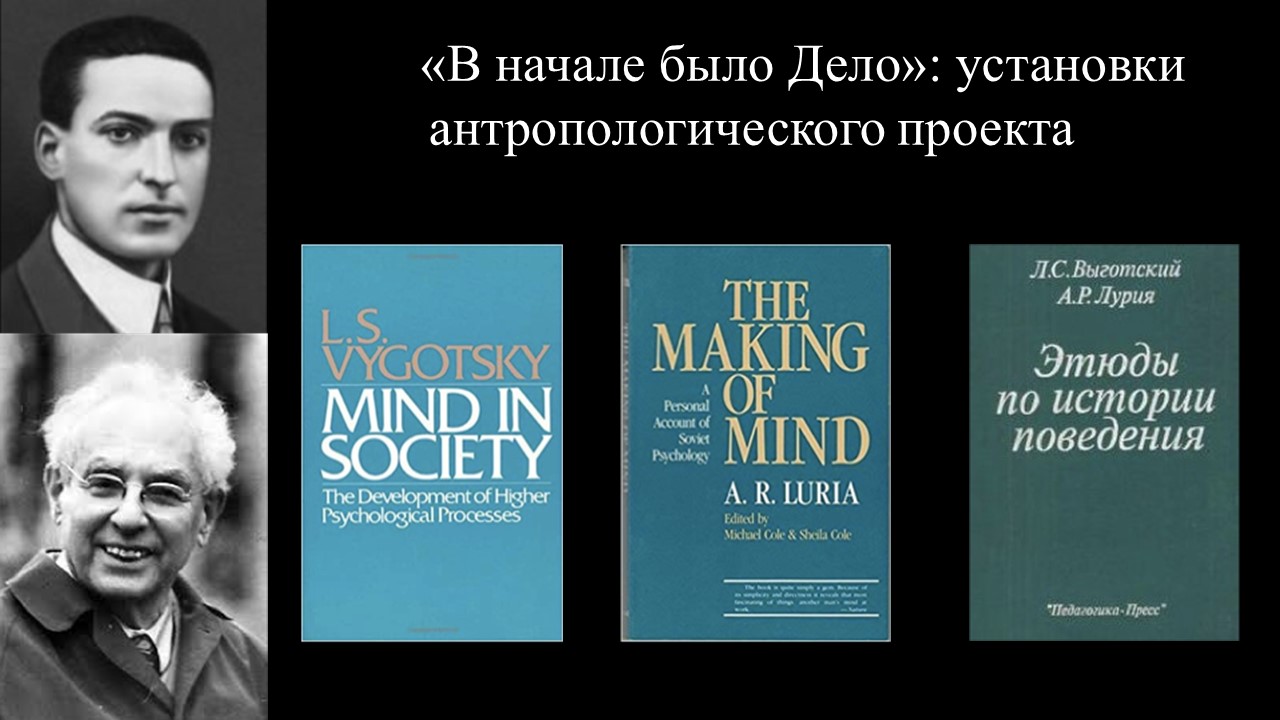
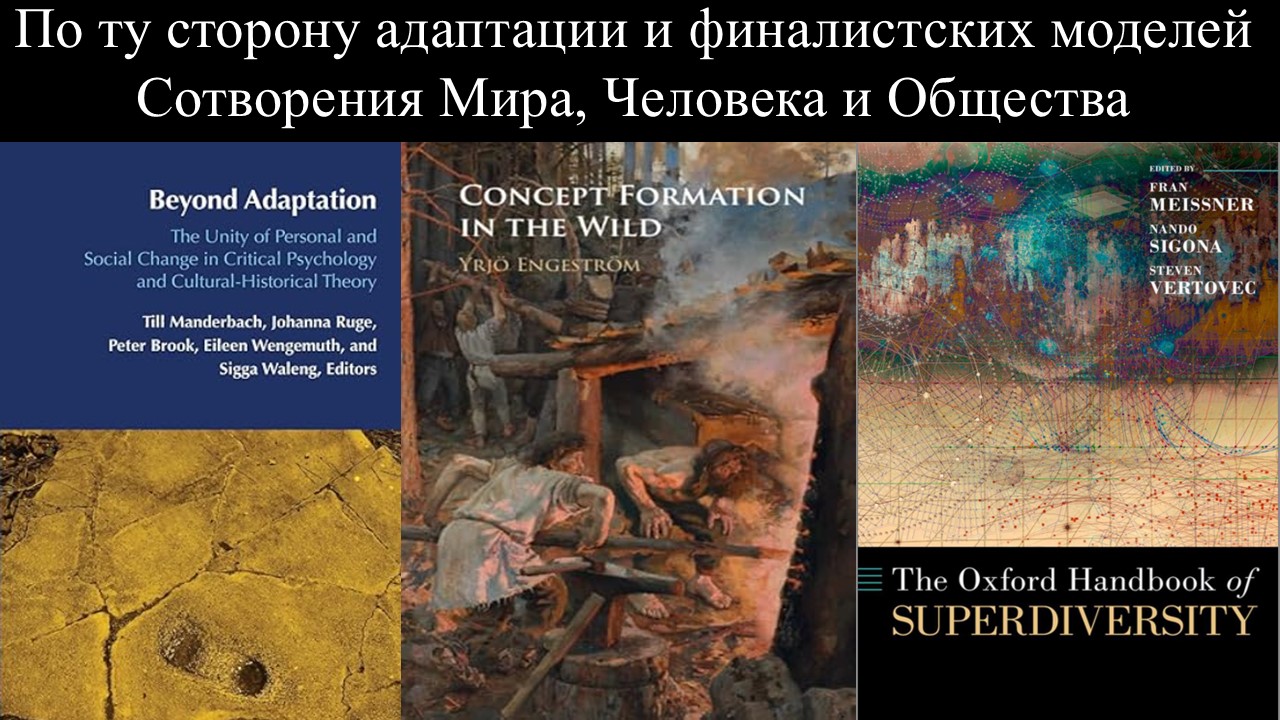
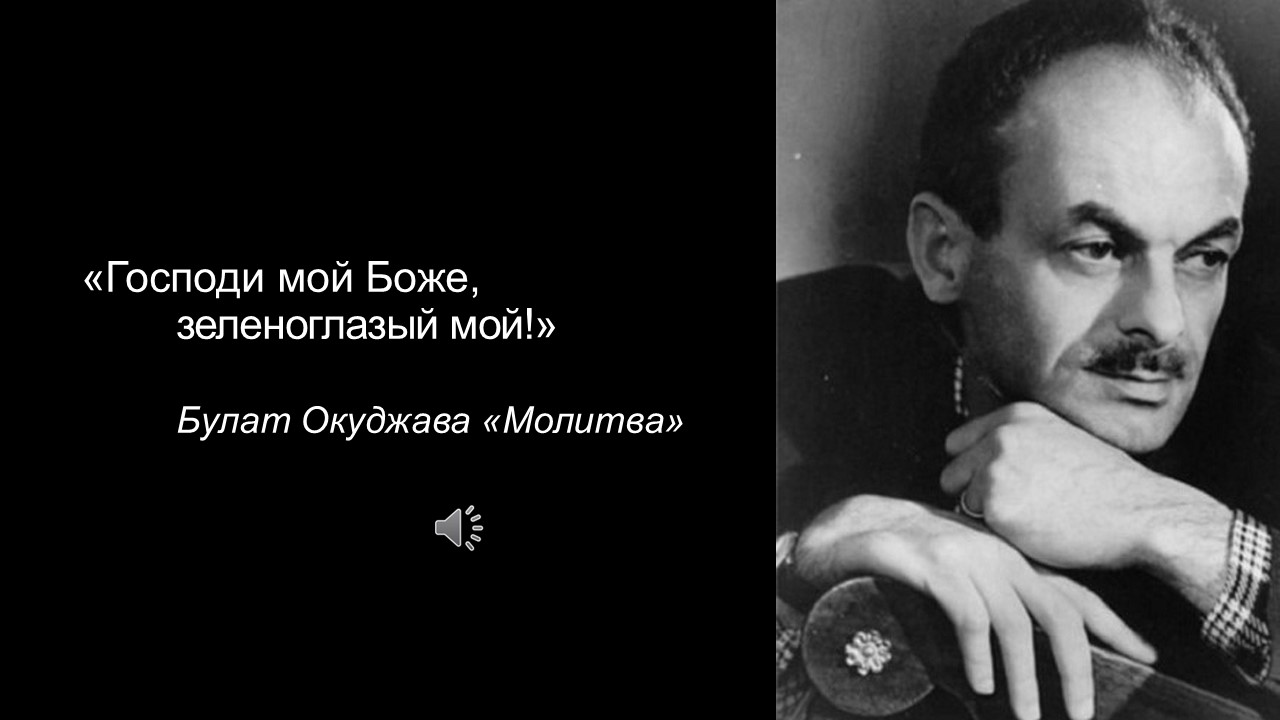




























































Думаю, если отказаться от Бога; если отказаться от человека, то останется... одиночество! Об этом экзистенциале уже поют!
, чтобы комментировать
Думаю, Если отказаться от Бога, Если отказаться от человека, то останется Одиночество! В сухом остатке! Об этом уже поют! Об этом раньше говорили экзистенциалисты!
, чтобы комментировать
«Бог умер», «Человек умер»(+++
Я думаю, что это не случиться никогда! А если и случиться, то останется душа человека, где-то там в далеком звездном пространстве. Ученые зафиксировали необычное явление, которое сопровождается вспышками неизвестной энергии — они назвали его «скоплением душ». Умирает только тело, но никогда, никогда не умирает ДУША(+++
Про статью! Очень интересная, с философским уклоном. Есть над чем поразмышлять. В том числе и над Молитвой Франсуа Вийона, в исполнении Булата Окуджавы.
С уважением, Валерий Михайлович.
, чтобы комментировать
P.S. "Пока Земля еще вертится,
пока еще ярок свет..."
Всегда ли она будет вертется и все ли время в одну сторону? Интересный вопрос.
, чтобы комментировать
Если у генерал-майора Булдеева разболелись зубы, то жизнь продолжается (А.П. Чехов: Лошадиная фамилия) и бог по имени Овсов востребован!!!
, чтобы комментировать
Религия, вера - часть культуры и психосоматики! Это то, что отличает человека от животного
, чтобы комментировать
Название статьи немного удивляет, ибо ответ уже есть - остается ДУША человеческая навечно!
, чтобы комментировать
Душа - часть Человеческого и часть Божественного! Для меня душа - "искра Божия". А, если Бог умер, человек умер, то, как остаться душе...
, чтобы комментировать
Душа по гречечески "псюхе" или "Психея" - по легенде это имя земной девушки, которая полюбила Бога! Вот, и решайте: где здесь психология, где Бог, общество и человек
, чтобы комментировать
Если Люди будут помогать выжить Ангелам, будет и Бог помогать Людям, и Человек будет жив, а не мертв(+++
Смотри картину Хуго Симберга "Раненый ангел", 1903 год.
С уважением, Валерий Михайлович.
, чтобы комментировать
Чудесно! Вот и в профессиональной среде мы перешли к комиксам!
Уважаемый Сергей Васильевич!
Комиксотерапией в настоящее время занимается ряд психологов. И пишут, что данный метод дает определенный эффект.
"...комиксы становятся терапевтическими, когда мы рисуем свою проблему. Когда появляется возможность улыбнуться своей проблеме, снижается уровень ее значимости..."
С уважением, Валерий Михайлович.
, чтобы комментировать
Может быть, это аллегория... "Все глупости в мире делаются серьёзным выражением лица! Улыбайтесь, господа!"(с)
, чтобы комментировать
Александр Григорьевич Асмолов - удивительно яркая, можно сказать гениальная личность во всем, что он с воодушевлением делает, будь то психологические исследования, межличностные взаимодействия, общение, публичные выступления, ... и парадоксальная Презентация в настоящем выпуске Психологической газеты. Кажется очевидным, что движущей силой любого Гения является экстремизм мысли, а источником мысли, как известно - дихотомизм категорий: качество-количество, свобода-необходимость, либерализм-консерватизм, традиции-инновации и т.д. Отстаивая вариативность и многообразие в оппозиции к единству (одна из недавних научных публикаций Александра Григорьевича посвящена консолидации), мы понимаем что без каждой из этих антропологических "констант" человечество не смогло бы выжить как таковое. Главный вопрос заключается в количественном соотношении этих бесценных качеств, т.е. связан с категорией меры, известной со времен Древней Греции. Из истории, которая не учит, известно какими потерями сопровождался смертоносный диктат в язычестве, религиозный экстремизм разного толка, идеологический экстремизм и его худший вариант - нацизм и фашизм. Сегодня, в условиях "текучей современности" и нагнетаемой неопределенности, становится все сложнее отстаивать единство в многообразии внеблоковых стран, противостоящее пропитанным ненавистью "замкнутого сознания" немалочисленным отрядам европейских младополитиков. Браво, Александр Григорьевич!
, чтобы комментировать