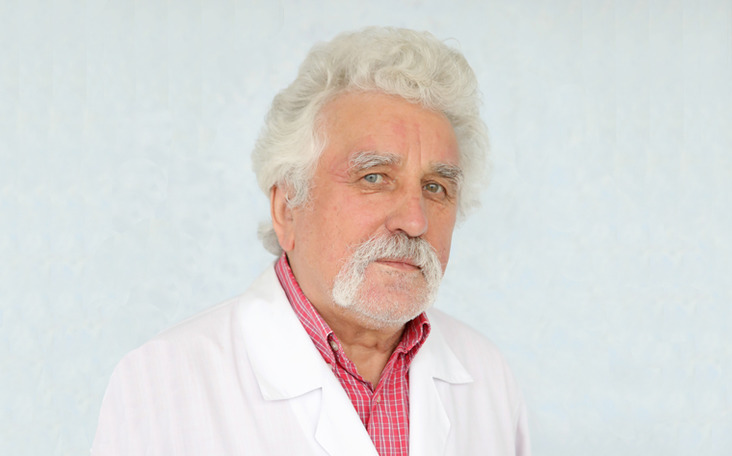
Психотравмирующие факторы, такие как неадекватный школьный климат, педагогическое насилие, дидактогения, постдидактогенический синдром, буллинг и виктимизация, вносят свой вклад в формирование психического и физического здоровья участников образовательного процесса [5, 7, 8, 14, 15]. По данным O.M. Jabborova, Z.A. Umarova, одним из важнейших духовных изменений в школьном возрасте является процесс проявления конфликтных ситуаций. Авторы описывают педагогические конфликты, возникающие в образовательной среде у детей в зависимости от возраста учащихся [24].
Издевательства над учениками являются проблемой во многих школах разных стран и рассматриваются как нежелательное явление в образовании. Снижение случаев преследования, издевательств и виктимизации является целью национальной и местной политики в области образования. В исследовании, проведенном на большой группе школьников, показана роль школьного климата образовательной организации в формировании агрессивного типа поведения и вовлекаемости школьников в процесс буллинга. Авторы исследования предлагают четыре измерения школьного климата с учетом вовлеченности в травлю участников образовательного процесса вне зависимости от типа буллинга [11].
K. Sullivan и соавт. изучали лонгитюдные отношения между виктимизацией сверстников, агрессией и школьным климатом в результате самоотчетов, собранных у 800 учащихся 3–6 классов. Анализ полученных результатов показал, что распространенность виктимизации сверстников в школах колеблется от 22 до 26,1%. По мнению авторов, позитивный школьный климат, который включает в себя факторы, способствующие обучению, физическую и эмоциональную безопасность, общение, поддержку и вовлеченность, может служить защитным фактором как против виктимизации сверстников, так и против ее негативных последствий [31].
О.А. Мосина и В.С. Устенко в своей работе рассматривают проблему насилия в школах и последствия такого вида насилия, как буллинг. Буллинг — это психическое и физическое насилие, которое проявляется между детьми или учителями по отношению к ученикам, а также учениками, родителями, администрацией и коллегами по отношению к учителю [10, 20].
По данным Darcy A. Santor, насилие в данном случае может быть направленно на школьника, который отличается чем-то от других или слабее сверстников, а также на целые группы учащихся, так называемых лузеров. Психотравмирующие действия могут носить единичный или повторяющийся характер, но обязательны для намеренного нанесения психотравмы пострадавшему [20].
Е. Matusov, Р. Sullivan в статье приводят историческую справку по возникновению педагогического насилия. Они описывают различные формы психосоциального педагогического насилия, приносящие вред здоровью, физические, социальные, эмоциональные и психологические боли или угрозы таких болей [25].
М.В. Фокиной и С.А. Чумаковой описан психологический профиль педагога, склонного к систематическому педагогическому насилию. Психологическое насилие, по их мнению, является одним из вариантов педагогического насилия [13].
Данные, полученные нами при опросе 220 учащихся, позволили доказать роль дидактогенных факторов в возникновении синдрома педагогического насилия. Были выделены следующие типы синдрома педагогического насилия: легитимное, административное и авторитарное педагогическое насилие. В качестве диагностического инструмента мы использовали разработанную нами анкету, включающую вопросы, отражающие взаимоотношение учителей и учащихся при проведении образовательного процесса. Синдром педагогического насилия отличается тем, что при нем возникает комплекс отклонений в состоянии здоровья у школьников или учителей под воздействием буллинга или других психотравмирующих факторов. В свою очередь, синдром педагогического насилия мы отнесли к одному из видов дидактогении [5, 6].
По данным А.А. Мирошниченко, дидактогения как термин редко употребляется в лексиконе педагогического сообщества и профессиональной деятельности учителей. Но она реально присутствует, и различные проявления педагогического насилия существуют на всех уровнях образования. Их объем и динамику в современных условиях невозможно оценить, т.к. в системе образования их мало кто пытается измерить [9].
Петербургский психиатр, психотерапевт, педагог И.С. Бердышев, работая в кризисном отделении Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия», разработал классификацию дидактогений. По тяжести и течению дидактогении он предложил подразделять на легкие, среднетяжелые и тяжелые формы. По длительности течения на: острую — с коротким эпизодом, подострую — с повторением эпизода дидактогении и хроническую — систематическую дидактогению [2, 3].
Учитывая возникновение отклонений в состоянии здоровья у участников образовательного процесса под воздействием негативных психотравмирующих факторов, мы предлагаем ввести понятие «постдидактическое стрессовое расстройство» (ПДСР), под которым следует понимать психическое или психосоматическое расстройство, возникающее в результате единичного или неоднократно повторяющихся событий, оказывающих негативное воздействие на психику человека (ребенка, подростка, педагога) в результате дидактической (педагогической) деятельности родителя, учителя, коллектива, в котором он вынужден находиться, или в результате активного уклонения от неё (педагогическая халатность) [6].
По данным М.А. Новиковой, А.А. Реана, И.А. Коновалова, частота вовлечения школьников в издевательства колеблется от 4 до 45% и зависит от вида издевательств. А 28 и 33% учащихся, соответственно, выступают в качестве инициаторов издевательств и жертв, причем максимум приходится на 7-й и 8-й классы. Авторы исследования предлагают четыре измерения школьного климата с учетом вовлеченности участников образовательного процесса в издевательства независимо от вида издевательств. Важным в исследовании является описание процесса создания инструментов для оценки школьного климата и диагностики буллинга, которые могут быть использованы в практической работе для предотвращения деструктивного поведения учащихся [11].
L. Lijun и соавт. в своей статье рассматривают вопросы буллинга и моббинга у школьников младших классов. Авторы отмечают, что буллинг и моббинг отрицательно влияют на самих школьных хулиганов, предопределяя их вовлечение в дальнейшем в преступную деятельность. А жертвы буллинга и моббинга, по их мнению, не способны хорошо учиться. У школьников, подвергщихся травле, возникают психические расстройства, проблемы в эмоциональной и социальной сферах. В то же время у свидетелей буллинга и моббинга появляются депрессия и тревожность. Авторы предлагают способы профилактики и нейтрализации буллинга и моббинга в образовательных учреждениях [22].
Y. Ortega в своей работе предлагает проект по снижению уровня агрессии в классе, реализованный в одной из «неблагополучных» средних школ. Автор связал вопросы социальной справедливости, уделив особое внимание буллингу. Результаты исследования показали, что учащиеся стали более чувствительными к культуре насилия, существовавшей в их школе, и осознали ее [28].
C. Longobardi и соавт. провели исследование феномена издевательств и случаев сексуальной, физической и психологической виктимизации в школе. В исследовании приняли участие 277 школьников, в т.ч. 64% девушек, с 6-го по 13-й класс. Результаты показали, что наиболее часто встречаемым типом виктимизации является психологическое насилие — 77%, за ним следуют физическое — 52% и сексуальное насилие — 24%. Эти формы насилия в основном совершаются со стороны сверстников [24].
C.S. Simone и соавт. выявили причины и распространение травли школьников-мигрантов, обучающихся в смешанных классах. Опрос 160 учащихся в возрасте 16 лет выявил, что культурное разнообразие в школе принимается как измерение воспринимаемого школьного климата с совершением издевательств над одноклассниками-мигрантами. Запугивание сверстников-мигрантов ассоциировалось с более негативным качеством контакта [30]. По нашему мнению, результаты данного исследования могут быть использованы для профилактики буллинга и в школах нашей страны.
R. Laskov-Peled, Y. Wolf провели эксперимент среди 117 учеников 3–4 классов, которые должны были представить потенциальные случаи насилия со стороны одноклассников в школе. Была произведена упорядоченная манипуляция сочетанием уровня (высокого или низкого) агрессивности и подверженности виктимизации у каждого главного участника (протагониста с положительными и отрицательными чертами). Участников информировали о том, собирается ли жертва дать материальное вознаграждение, продемонстрировать признаки страдания или отомстить. В исследовании выявлена тенденция к снижению вероятности насилия, когда педагог знает об этих инцидентах и может их предотвратить [23].
Y. Cruz-Manrique и соавт. в исследовании с помощью шкал «Суицидальные мысли», «Насильственное поведение в школе», «Виктимизация в школе», «Я-концепция форма-5» и шкалы депрессии CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) проверили модель прогнозирования суицидальных мыслей у 762 подростков в возрасте от 11 до 16 лет с учетом насилия и виктимизации в школе, семейной и академической самооценки и симптомов депрессии в качестве предшествующих факторов. Полученные результаты указали на двойную связь между виктимизацией в школе и суицидальными мыслями: прямое и положительное влияние на суицидальные мысли и, с другой стороны, косвенное и отрицательное влияние через поддержку семьи. По данным авторов, семейная самооценка была важным защитным фактором [19].
L.V. Rychkova и соавт. исследовали социально-демографические и семейные детерминанты школьного буллинга среди подростков. Авторы проанкетировали 148 мальчиков и 145 девочек в возрасте 11 лет с помощью опросника «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC — Health Behaviour in School-Аged Children). Все подростки были разделены на 3 группы в зависимости от их ответов о буллинге в школе. В 1-ю группу из 167 школьников вошли подростки, которые никогда не сталкивались с буллингом в школе; во 2-ю группу из 90 школьников вошли подростки, сталкивавшиеся с буллингом в школе 1–2 раза за последние 2 месяца; 3-я группа из 36 подростков сталкивалась с буллингом несколько раз в месяц и чаще. Школьники, пострадавшие от буллинга, в меньшей степени полагались на помощь родителей в принятии решений. В результате у них была низкая самооценка и низкая удовлетворенность качеством жизни. По данным авторов, состав семьи, материальное благополучие, род занятий не выявили значимых связей со школьной травлей подростков [29].
Исследование I.D. Balandina и соавт. показало, что из 499 школьников 3 и 4 классов 80% оказывались в ситуации школьной травли, а 20% становились жертвами буллинга [17].
E. Nikolaev и соавт. выявили специфику распространенности буллинга и его взаимосвязь со склонностью к виктимному поведению у сельских школьников. В опросе участвовали 47 девочек и 54 мальчика в возрасте 10–17 лет. Анализ результатов исследования показал, что 58.4% учащихся подвергаются систематической и продолжительной травле. Авторы показали, что из 10 наиболее частых проявлений буллинга 6 были направлены на нарушение возможности общения учащегося, 2 — на умаление его социального статуса и 1 — на разрыв социальных связей. А 3 из 10 проявлений буллинга были связаны с травмирующими действиями учителей, т.е. дидактогенией. Буллинг со стороны учителей коррелировал с низкой самокритичностью ученика. Для профилактики и предотвращения буллинга авторы предлагают объединить усилия учащихся, учителей, семьи и общественных организаций [26].
Y. Harel-Fisch и соавт. проанализировали межнациональные исследования взаимосвязи между негативным школьным опытом и участием в буллинге в 40 странах Европы и Северной Америки. Оценки результатов включали издевательства, виктимизацию и участие как в качестве хулигана, так и в качестве жертвы. Логистический регрессионный анализ показал, что у детей, имеющих негативное восприятие школы, относительная вероятность быть вовлеченными в издевательства в два раза выше, чем у детей, не имеющих негативных школьных восприятий [21].
G. Avanesian и соавт. провели статистический анализ данных Программы международной оценки учащихся в России среди 6249 подростков в возрасте 15 лет, которые ответили на вопросы о травле. Результаты исследования показывали, что 16% подростков являются жертвами буллинга. По их мнению, запугивание было тесно связано с результатами обучения, на основании чего авторы делают вывод, что подростки с низкой успеваемостью чаще подвергаются риску серьезной виктимизации. А распространенность буллинга также зависит от психологического климата в классе и имеет тенденцию чаще развиваться в конкурентной среде. Результаты исследования показали, что издевательства негативно влияют на качество жизни жертв. В то время как сами жертвы буллинга не склонны разделять негативное отношение к себе как таковому [16].
В работе S.C.S. Caravita и соавт. показана взаимосвязь школьного климата с возникновением буллинга. Если учащиеся считают, что их учителя или школьные правила несправедливы, поддержка взрослых в школе смягчает пагубное влияние предполагаемой несправедливости на насилие в школе. Анализ результатов исследования показал, что справедливое обращение особенно важно в контексте низкой поддержки, а поддержка особенно важна в контексте несправедливого обращения с учащимися [18].
В своей работе М.Ж. Толоев представил педагогические условия устранения агрессивного поведения старшеклассников. Автор определил факторы, типы, уровни, критерии, способствующие возникновению агрессивного поведения у старшеклассников, и педагогические условия для его устранения, применяемые на практике [12].
Важным в исследовании, проведенном М.А. Новиковой, А.А. Реаном, И.А. Коноваловым, является описание процесса создания инструментов оценки школьного климата и диагностики буллинга, которые можно использовать в практической работе по профилактике деструктивного поведения учащихся [11].
По данным С.В. Бошук, количество проявлений буллинга может быть значительно снижено не только посредством профилактики агрессивности в школьной среде, но и в результате профилактики виктимного поведения учащихся. В качестве одной из форм предлагается методика формирования и закрепления у подростков в рамках тренингов оптимальных коммуникативных навыков, приемов бесконфликтного общения, навыков оценивания и прогнозирования виктимогенных ситуаций [4].
По данным D. Olweus и S.P. Limber, буллингу подвергаются 10% школьников мира, что составляет лишь небольшой процент психического и физического насилия среди детей. Жертвами буллинга в среднем становятся 17,5% мальчиков и 16% девочек. В среднем учащиеся подвергаются буллингу 2–3 раза в месяц независимо от того, в каком социальном положении они находятся и какой статус в социальном обществе имеют. Инициаторами травли являются всего 7% девочек и 12% мальчиков. Авторами была разработана программа ОВРР (Olweus Bullying Prevention Program) для снижения уровня буллинга среди учащихся младших классов средних школ, выделив три особенности его проявления.
- Буллинг является длительным конфликтом, поскольку из обычного конфликта можно выйти, а при буллинге происходит систематичное давление на ребенка, которое может длиться на протяжении нескольких учебных лет или до самого окончания школы (вуза, колледжа).
- Буллинг всегда направлен намеренно, он подкрепляется целью, которая содержится во внутреннем агрессивном состоянии буллера (инициатора буллинга).
- Главными составляющими в провокации при буллинге являются беспомощность ребенка в данной ситуации и власть буллера [27].
Karl Ljungstrоm предложил «Метод Фарста» для преодоления буллинга в школах Стокгольма. Метод включает 4 шага: первый — раскрывает темы того, что нужно сделать при столкновении с буллингом и что должны знать педагоги о людях, подвергнутых травле; второй — определяет действия человека для защиты от травли: обеспечение поддержки, нахождение помощи знакомых, спланированное время и т.д.; третий направлен на борьбу с буллингом, включает действия при работе с ребенком, который является инициатором в буллинге; четвертый — поддержка и благодарность помощников в успешной реализации действий и защите детей от другого ребенка — буллера. Для защиты от буллинга необходимо проводить профилактические мероприятия, в ходе которых могут быть применены методики, направленные на противодействия буллингу. Для успешной реализации этой методики необходимо иметь опыт в сопротивлении буллеру и участие 5–6 педагогов. Этот метод обеспечивает доведение до стадии исполнения мер разрешения проблем в отношении буллера и рассматривает оперативное реагирование на негативные проявления у жертв буллинга [1].
Выводы
Учитывая сложившееся в настоящее время положение в образовательных учреждениях, для борьбы с психотравмирующими факторами среди участников образовательного процесса на государственном уровне необходимо разработать и внедрить в образовательные учреждения антибуллинговую программу, обязательную к выполнению независимо от типа и формы учебного заведения.
Литература
- Барбина В.Д., Слепухина Г.В. Проблемы буллинга в образовательной среде // Современная наука. 2019. 12 (2). С. 236-330.
- Бердышев И.С. Дидактогенические ситуации в практике детского психиатра. Социальная работа: теория, методы, практика // Мат-лы интернет-конференций и семинаров Выпуск 1. Проблемы здорового развития ребенка и детская психотравма. СПб.: 2012. С. 4–9. http://homekid.ru/family/v12012psyhotravma (дата обращения: 22.05.2022).
- Бердышев И. Лекарство против ненависти; семинар записала Е. Куценко // Первое сент. 2005. 15 марта (№ 18). С. 3.
- Башук С.В. Виктимность подростков как фактор школьного буллинга // Культура и время перемен. 2021. № 4 (35). URL: timekguki.esrae.ru/51-699 (дата обращения: 22.05.2022).
- Ганузин В.М. Буллинг, дидактогения и синдром педагогического насилия в отечественных и зарубежных исследованиях // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2020 (20). № 4. С. 106-114.
- Ганузин В.М. Анализ психотравмирующих факторов, негативно влияющих в школьном возрасте: рядовые школьных войн (обзор литературы) // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2021 (21). № 4. С. 99-110.
- Калягин В.А., Овчинникова Т.С. Внутренняя картина дефекта и дидактогении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2020. № 198. С. 115-122.
- Ковалева Е.А. Педагогическое насилие, его причины и способы преодоления // Психология человека в образовании. 2019. 1 (2). С. 146-157.
- Мирошниченко А.А. Комплексная оценка деятельности учителя как условие профилактики дидактогении // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2017 (17). № 2 С. 162–163. (приложение).
- Новикова М.А., Реан А.А., Коновалова И.А. Буллинг в российских школах: опыт диагностики распространенности, половозрелых особенностей и связи со школьным климатом // Вопросы образования. 2021. № 3. С. 62-90.
- Толбоев М.Ж. Pedagogical Conditions for Correcting the Aggressive Behavior of High School Students // Актуальные вопросы образования и науки. 2021. № 1 (71). С. 55-61.
- Фокина М.В., Чумаков С.А. Феноменология педагогического насилия // Международный журнал экспериментального образования. 2020. № 3. С. 47-52. URL: https://expeducation.ru/ru/article/view?id=11964 (дата обращения: 22.05.2022).
- Худик В.А., Фесенко Ю.А. Дидактогения как ошибки воспитания и обучения детей и подростков // Вестник Череповецкого государственного университета. 2015. № 7. С. 147–151.
- Черная Н.Л., Ганузин В.М., Киселева А.В., Ермолина Е.А. Сравнительная характеристика вегетативной устойчивости и социальной адаптированности подростков, обучающихся в сельских и городских школах // Детская больница. 2009. № 1. С. 33 – 37.
- Avanesian G., Dikaya L., Bermous A., Kirik V., Egorova V., Kochkin S., Abkadyrova I. Bullying in the russian secondary school: predictive analysis of victimization // Frontiers in Psychology. 2021. T. 12. № MAR. S. 644-653. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.644653
- Balandina I.D., Volchegorskaya E.Yu., Zhukova M.V., Frolova E.V., Shishkina K.I., Yuzdova L.P., Moskvitina T.N. Rrevention of bullying in primary school // ICERI2021 Proceedings. 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Spain, 2021. S. 7806-7812.
- Caravita S.C.S., Papotti N., Valtolina G.G., Gutierrez Arvidsson E., Thornberg R.Sontact with migrants and perceived school climate as correlates of bullying toward migrants classmates // New directions for child and adolescent development. 2021. T. 2021. № 177. S. 141-157.
- Cruz-Manrique Y., Olaizola J.H., Cortés-Ayala L., Malvaceda-Espinoza E. Effect of violence and school victimization on suicidal ideation in mexican adolescents // International Journal of Psychological Research. 2021. T. 14. № 2. R. 30-36.
- Darcy A. Santor, Chris Bruckert &, Kyle McBride. Prevalence and Impact of Harassment and Violence Against Teachers in Canada // Journal of School Violence.
- Harel-Fisch Y., Fogel-Grinvald H., Amitai G., Walsh S.D., Pickett W., Molcho M., Due P., De Matos M.G., Craig W. Negative school perceptions and involvement in school bullying: a universal relationship across 40 countries //Journal of Adolescence. 2011. T. 34. № 4. R. 639-652.
- L. Lijun, Ch. Bing, Ch. Shijian, Zh. Yufang. Association between authoritative school climate and school bullying: moderation by school belonging // Yaroslavl pedagogical bulletin. – 2020. – No 1(112). – P. 164-170.
- Laskov-Peled R., Wolf Yu. School violence in the eyes of the beholders: an integrative aggression-victimization perspective // International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 2002. T. 46. № 5. R. 603-618.
- Longobardi C., Prino L.E., Fabris M.A., Settanni M. Violence in school: an investigation of physical, psychological, and sexual victimization reported by italian adolescents // Journal of School Violence. 2019. T. 18. № 1. S. 49-61.
- Matusov E., Sullivan P. Redagogical violence // Integrative Psychological and Behavioral Science. 2020. Vol. 54. № 2. R. 438-464. https://doi.org/10.1007 / s12124-019-09512-4
- Nikolaev E., Petunova S., Velieva S.V., Pinyaeva O. Bullying and victim behavior in rural secondary school students: incidence, manifestations, interrelations. V sbornike: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS). conference proceedings. Volume XLIII. 2018. S. 528-534.
- Olweus D., & Limber, S. P. (2010). Bullying in school: Evaluation and dissemination of the Olweus Bullying Prevention Program. American Journal of Orthopsychiatry, 80(1), 124–134. https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.2010.01015.x
- Ortega Y. Using collaborative action research to address bullying and violence in a colombian high school EFL classroom // Ikala. 2020. T. 25. № 1. S. 35-54.
- Rychkova L.V., Petrash M.A., Pogodina A.V., Astakhova T.A., Klimkina Yu.N. Socio-demographic and family determinants of school bullying among young adolescents // Archives of Disease in Childhood. 2021. T. 106. № S2. S. 196. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2021-europaediatrics.467
- Simone C.S., Caravita S.C.S., Papotti N., Valtolina G.G., Gutierrez Arvidsson E., Thornberg R. Sontact with migrants and perceived school climate as correlates of bullying toward migrants classmates // New directions for child and adolescent development. 2021. T. 2021. № 177. S. 141-157.
- Sullivan K., Zhu Q., Wang C., Boyanton D. Forholdet mellem kammeratlig viktimisering, aggression og skoleklima blandt elever i grundskolen i Kina // School Psychology Review. 2021. http://hdl.handle.net/1903/25516
Источник: Ганузин В. М. Современный взгляд на особенности психотравмирующих факторов образовательной среды: буллинг, виктимизация, педагогическое насилие, дидактогения и возможности их профилактики (обзор) // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2022. Том 22. №2. С. 92–101.






























































Уважаемый Валерий Михайлович! Хорошая статья, поздравляю с выходом в психологической газете, лично для меня это уровень повыше многих ваковских изданий. Касаемо же самой работы, тема важна и актуальна во все времена, сначала буллинг, потом молодежные группировки, потом в тюрьму, причем этим путем может пойти не только угнетатель, но и жертва, пытаясь спастись, стать своим для хулиганов. Более того жертвы перешедшие в стан угнетателей гораздо более злее и отчаяние, у них нет выработанных границ, как у прирожденного хулигана, он то привык со своей агрессией управлять чуть ли не с детства и знает когда сказать стоп. В связи с этим жертвы совершают больше преступлений и чаще садятся в тюрьму. К примеру, члены молодежных банд часто подвергались домашнему насилию, или же уличному. Мои наблюдения и мысли для размышлений касаемо этой темы. С уважением к Вам и Вашему труду.
, чтобы комментировать
Уважаемый Марат Радикович!
Спасибо Вам за данный отзыв и оценку статьи.
Полностью согласен с Вашими наблюдениями за превращением жертвы в буллера и дальнейшей траектории его в молодежном преступном мире. По этой теме есть специальный ежеквартальный рецензируемый журнал Journal of School Violence, издаваемый в США.
Этой проблемой я занимаюсь с 2003 года. Изучаю две стороны проблемы: насилие над школьниками и насилие над учителями.
Если интересно, пришлю в личку список своих работ по этой теме.
С уважением, Валерий Михайлович.
, чтобы комментировать