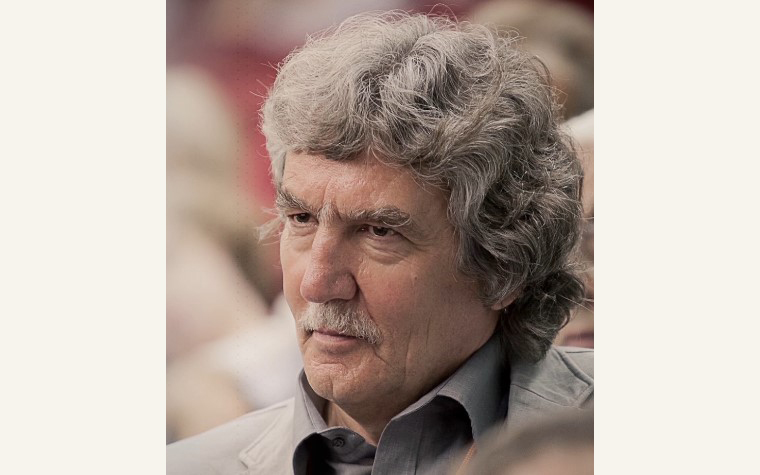
Объяснительные модели чудесного в философии
Итак, возможно ли в «темной комнате» корневой, метафизической и собственно эпистемологической философии (вспоминаем претензии относительно вторичности и расплывчатости такого рода философских построений) обнаружить «черный жемчуг» сокрытых здесь рецептов предметного понимания драгоценных находок Платона, Фомы Аквинского, Ибн Араби и многих других блистательных мыслителей, к трудам которых мы обратимся в настоящем разделе текста.
Способны ли мы — с использованием соответствующих философских построений — вполне понимать основу unus mundus (единой жизни) первородных гностиков: «Мертвые не живы, а живые не умрут», и еще: «Мы не знали нашего дома, пока не покинули его. Затем мы обнаружили, что бесконечность наш дом и вечность наша судьба». И где же рецепт толкования того, о чем сказано: «Тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти» (Евангелие от Фомы, цит. по изд. 2010).
Но вот слова ободрения и поддержки все из того же источника: «Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет, и, когда он найдет, он будет потрясен, и, если он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать над всем». И конечно, вот эта пронзительная сентенция Иисуса — еще и обнадеживающий прогноз, и критерий обнаружения подлинного рецепта спасительного Чуда Новейшего времени.
Философия чудесного в Новом времени
Первые, безусловно критические и тем не менее конструктивные попытки философского осмысления Чуда как раз и были связаны с отделением чудесных «зерен» от фальшивых «плевел», а также с выведением универсального алгоритма трансформации этого непонятного и необъяснимого феномена в более или менее внятную перспективу существенного расширения наших представлений о реальности.
Чуть более оптимистичным в этих прогнозах выглядит уже известный нам шотландский философ Дэвид Юм. В частности, в своей фундаментальной работе «Исследование о человеческом разумении» (Глава X. О чудесах.) Юм высказывается следующим образом: «Всякому чудесному явлению должен быть противопоставлен единообразный опыт, иначе это явление не заслуживает подобного названия. А так как единообразный опыт равносилен доказательству, то против существования какого бы то ни было чуда у нас есть прямое доказательство, вытекающее из самой природы факта, причем оно может быть опровергнуто только противоположным, более сильным доказательством, и только в последнем случае чудо может стать вероятным» (Д. Юм, цит. по изд. 1995).
Известный британский философ Джон Локк в своем резонансном произведении «Рассуждение о чудесах» также весьма точен в определении критериев подлинного Чуда. Интересно, что он использует метафору не только темной, но и тесной комнаты для обозначения всех трудностей на пути познания сути чудесного: «Я сомневаюсь, что любой человек, ученый или неученый, мог в большинстве случаев сказать относительно какого-либо определенного действия, которое могут воспринимать его органы чувств, что оно определенно есть чудо. Прежде чем он будет уверен, что ни одно сотворенное существо не имеет силы его совершить... Но определить, каков предел силы, который любой из них располагает, было бы смелым предприятием человека, находящегося в темноте, выносящего приговор, не видя осужденного, и устанавливающего в своей узкой каморке границы тому, что находится на расстоянии бесконечности от его системы и за пределами его понимания» (Д. Локк, цит. по изд. 2020).
Феномен Чуда, таким образом, стимулирует развитие авангардной науки — вот основной тезис британских мыслителей, с которым невозможно не согласиться. Но мы помним и о том, что данный тезис был выведен около четырех веков тому назад. Однако совсем не похоже, чтобы общий корпус науки и даже его авангардный фронт за все это время достигли каких-то ощутимых результатов в «освещении» этого сумрачного, ограниченного пространства. Как же здесь не вспомнить речение мудрейшего Протагора: «... и вопрос слишком темен, и жизнь коротка...»?!
Но вот в стане философии не прошло и ста пятидесяти лет, как великолепный Артур Шопенгауэр в своем главном труде «Мир как воля и представление» (1818) прописал ключевую и до сих пор никем не опровергнутую догадку о подлинной природе чудес. Здесь этот гениальный мыслитель и провидец пишет следующее: «Влияние внешнего мира на реальную основу человеческого сознания совершается безвременно. Лишь вступая в область чувств и бодрствующего интеллекта, это влияние выражается в формах времени и пространства. Животный магнетизм, симпатическое лечение, второе зрение, духовидение и чудеса всякого рода — все это родственные явления, ветви одного ствола, дающие верное и неопровержимое свидетельство о связи существ, основанной на порядке вещей совершенно другого рода, чем порядок природы, основанный на законах времени, пространства, причинности» (А. Шопенгауэр, цит. по изд. 2007).
Для того чтобы читателям было понятно, почему такое внимание к процитированному фрагменту текста Шопенгауэра, попробуем разобраться с высказанными здесь идеями:
- существуют порядки вещей, отличные от «основанных на законах времени, пространства, причинности»; и заметим, что в этом перечислении «законы времени» идут на первом месте;
- взаимодействие внешнего мира (т.е. «объективной реальности» — авт.) и «основы сознания» (понятно, что речь идет о глубинных слоях, или внесознательных инстанциях психического — авт.) совершается вне стандартных параметров времени, и это поразительная догадка;
- формы времени и пространства (по тексту понятно, что речь идет о так называемом объективном пространственно-временном континууме — авт.) проявляются лишь в условиях активности «бодрствующего интеллекта» (сознания);
- бодрствующий интеллект (сознание) запускает процессы «чувствования» стандартной пространственно-временной реальности;
- феномен Чуда, следовательно, обусловлен вот этой «безвременностью» и «порядком вещей», отличным от стандартного форматирования пространственно-временного континуума с использованием бодрствующего интеллекта (сознания);
- для этого отличного от стандартного порядка вещей характерно сущностное единство «ветвей одного ствола» (т.е. чудесное воздействие на «одну ветвь» со стороны «другой ветви», осуществляемое вопреки законам «объективного» пространственно-временного континуума, — у Шопенгауэра это «животный магнетизм, симпатическое лечение, второе зрение, духовидение и чудеса всякого рода» — реализуется через вот этот «общий ствол»); и никакого секрета в отношении того, Кто же этот «Общий Ствол» для всех «деревьев вселенной», конечно, нет;
- еще один секрет осмысленной генерации подлинных и наиболее востребованных чудес, с учетом всего сказанного, также лежит на поверхности. Вопрос только лишь в том, почему понадобилось еще свыше двухсот лет, чтобы основательно разобраться с этим грандиозным наследием великого философа.
Но и Шопенгауэр, как мы знаем, в этой «летаргической» номинации отнюдь не чемпион. К примеру, величайший гений Гераклит Эфесский — тот самый Гераклит, который утверждал, что только бодрствующие имеют для себя общий мир, а спящие разворачиваются — каждый в свой собственный, и которого современники прозвали «Темным», — ожидал понимания своих провидческих тезисов около трех тысяч лет.
И все же откуда вот эта густая «тень» или даже «темень», неотступно преследующая любые попытки вырваться из ограниченного пространства расколотого бытия? Ведь если в случае Гераклита, предпочитавшего изъясняться многослойными метафорами, добраться до сути излагаемых им истин было делом сложным (вспоминаем реплику Сократа по прочтению главной книги Гераклита: «То, что я понял, прекрасно. Из чего я заключаю, что не понятое мною также прекрасно, но надо быть «делосским водолазом» (т.е. водолазом, умеющим опускаться на большую глубину, — авт.), чтобы добраться до сути его изложения»), то о трудах Шопенгауэра этого не скажешь. Более того, вот этот процитированный фрагмент — вовсе не изолированная «многослойная» сентенция, а понятное следствие всесторонне проработанной, аргументированной и представленной научному миру философской системы.
При знакомстве с главным трудом Шопенгауэра нельзя не обратить внимание, что категория реальности у него выстраивается гораздо более сложным и в то же время обоснованным и понятным наконец образом. В эту сложную реальность очень хорошо и органично вписываются и статус субъекта, и понятие времени. Шопенгауэр был первым, кто ясно и отчетливо заявил, что «Мир как представление (актуальный план реальности — авт.) имеет две существенные, необходимые и неотделимые половины. Первая из них — объект, его формой служит пространство и время, а через них — множественность. Другая же половина, субъект, лежит вне пространства и времени... эти половины неразделимы даже для мысли... если исчезает это единство, то мир как представление перестает существовать». Вот эта чрезвычайно важная констатация «местоположения» субъекта и присутствия «объективной» реальности лишь в сознании субъекта в системе координат Шопенгауэра и открывает возможности для активного «перемещения» субъекта по всему полю теперь уже объемной реальности. Но тогда что же есть «главный двигатель» такого перемещения? Это, конечно, Время.
Концепт времени занимает центральное место в сложной конструкции реальности Шопенгауэра. Этому концепту придается существенное значение именно в понимании динамики становления и взаимодействия главных, по Шопенгауэру, компонентов реальности. Время в такой реальности понимается как «мимолетная форма облачения и проявления того, что само в себе не знает времени, но должно все-таки принимать его форму, для того чтобы объективировать свою сущность». И далее Шопенгауэр выстраивает такую последовательность: 1) воля (бессознательное — авт.) обеспечивает жизнь; 2) жизнь — дает настоящее; 3) настоящее — обеспечивает возможность соприкосновения объекта, формой которого служит время, с субъектом, который не имеет никакой формы и составляет условие всего познаваемого; 4) таким образом, время — это в метафоре некий бесконечно вращающийся круг: опускающаяся половина — это прошедшее; поднимающаяся — это будущее; неделимая же точка наверху — это непротяженное настоящее, то, что всегда есть и незыблемо. Чуть забегая вперед, мы бы здесь добавили, что вот эта форма облачения воли (потенциального, непроявленного статуса реальности — авт.) в настоящем — «незыблема» лишь в определенных форматах импульсных характеристик сознания-времени, чем, собственно, аргументируется «объективность» и «непреложность» физических законов, о чем и было сказано в ранее процитированном и разобранном нами фрагменте. Но само по себе выстраивание конструкции вневременного (потенциального) и временного бытия информационных планов реальности, с умножением и усложнением таких планов объемной реальности, — это гигантский, поразительный для своей эпохи шаг к прояснению темпоральной генетики объемной реальности и к общей идее управления временем.
И уж если мы так глубоко погрузились в перипетии главного труда Артура Шопенгауэра, то попробуем на этом примере прояснить и природу «темных пятен» на светлом полотне «мира, как воли и представления», а заодно и на всех прочих «солнечных бликах» трудов гениальных философов и провидцев, представленных в настоящем разделе нашего текста.
Заочная полемика известного исследователя истории философии и этики Фридриха Йодля, опирающегося на принципы классической научной логики, и Шопенгауэра, во многом превзошедшего эти принципы, приведена на страницах фундаментального труда Йодля «История этики в новой философии: Кант и этика в девятнадцатом столетии», впервые изданного в 1898 году. Здесь Йодль пишет следующее: «Явление сострадания, благодаря которому я при посредстве познания, которое имею о другом, настолько с ним отождествляюсь, что разница между мной и им по крайней мере до известной степени исчезает, — это «повседневное» явление, с этой целью обозначаемое Шопенгауэром как таинственное (mysterios), — даже часть великой тайны (Mysterium)». Но сам Йодль, мягко говоря, не поддерживает вот эту «избыточную» и невнятную интерпретацию Шопенгауэра и делает это в иронично-агрессивной манере, хорошо знакомой тем, кто когда-либо участвовал в научных дискуссиях: «На вопрос о том, по какому праву он (т.е. Шопенгауэр — авт.) утверждает это после превосходного и обстоятельного исследования о симпатических феноменах, которые были сделаны в английской психологии, — существует только один ответ: для того, чтобы взамен столь многих проблем иметь по крайней мере возможность представить глубокомысленное объяснение сострадания, — а именно выведение его из метафизической тождественности всех индивидуумов по существу — в единой вне-пространственной и вне-временной перво-воли» (Ф. Йодль, цит. по изд. 2016). То есть здесь нам продемонстрирован конфликт «нестыкующихся» эпистемологических позиций, в поле которых выстраивались соответствующие утверждения Шопенгауэра и Йодля.
Но и это еще не все. Такого рода конфликт, как ни странно, присутствовал и в общем поле базисных идиом самого гениального философа. Так, например, известно, что Шопенгауэр яростно отвергал и порицал возможность позиционирования этических принципов как научных постулатов, игнорируя таким образом тезис Канта о том, что это, конечно, должна быть особая, новая наука и новая философия, притом что Иммануил Кант, возможно, был единственным персонажем из мира философии, к которому он испытывал безграничное уважение, и при всем том, что Шопенгауэр не мог не понимать значения этических принципов в этой безграничной реальности.
То есть блистательно представленные им категории новой реальности — вне-временности (вечного) и вне-пространственности (бесконечного) Шопенгауэр все же представлял как некую статику, что совершенно невероятно. Приходится признать и то, что Шопенгауэр так и не прояснил и не принял для себя то важное обстоятельство, что отдельный сектор системы кодифицированных знаний, или, правильнее сказать, информационного конгломерата, который и поныне выдают за науку, является не более чем узким фокусом репрезентации такого же крайне ограниченного плана объемной реальности. И поэтому нет никакого резона отказываться от пошагового познания и раскрытия этой чудесной и полной сюрпризов объемной реальности — к чему, собственно, и призывал Кант, — и тем более отделять эту сферу от подлинного предмета науки. Наука — это не про другое, это про то же самое.
То есть особо прочного и всегда проходимого моста к подлинной целостности расколотого бытия великий философ и яркий эксцентрик Артур Шопенгауэр так и не нашел. И очень возможно, что вошедшая в поговорку эксцентричность Шопенгауэра (но и здесь он не превзошел Гераклита, который и в этом смысле вне всякой конкуренции) как раз и объясняется природой конфликта «темных пятен» и «солнечных бликов» в душе великого философа.
Присматриваясь к природе этого глубинного конфликта через «увеличительное стекло» эпистемологического анализа и одновременно исследуя перспективу создания прочного моста, соединяющего фрагменты расколотой реальности, мы не можем пройти мимо трудов Фридриха Вильгельма Шеллинга, известного философа, главные труды которого были опубликованы во второй половине XVIII века. В этих трудах, помимо прочего, Шеллинг глубоко исследовал феномен чуда жизни, в осмыслении которого он продвинулся до высот Ханса Дриша, автора концепции витализма, притом что последний творил на полтора столетия позже и во многом основывался на трудах Шеллинга.
В своих произведениях Ф.В. Шеллинг постоянно возвращался к идее тесного взаимодействия духовного и органического начала сложной структуры реальности и доказывал невозможность их отдельного, изолированного существования. Такая сложная реальность, согласно Шеллингу, есть некий единым организм, инициированный феноменом жизни как таковой. И далее он ясно говорил о том, что в этом колоссальном вселенском «организме» присутствует видимая, контурируемая сторона и невидимая, не доступная какому-либо измерению, но ясно угадываемая основа.
Так, например, в своем основном произведении с весьма красноречивым названием «О мировой душе. Гипотеза высшей физики для объяснения всеобщего организма, или Разработка первых положений натурфилософии» Шеллинг высказывается о взаимодействии выводимых им статусов реальности следующим образом: «Исследование всеобщих изменений в природе, а также развития и состояния органического мира действительно приводит естествоиспытателя к общему началу, которое, паря между неорганической и органической природой, содержит первопричину всех изменений в первой и последнее основание всей деятельности во второй, поскольку это начало есть повсюду, его нет нигде, и поскольку оно есть все, оно не может быть ничем определенным или особенным; именно поэтому в языке для него по существу нет обозначения — идею этого начала древняя философия (к ней, завершив свой круговорот, постепенно возвращается наша) передала нам лишь в поэтических образах» (Ф.В. Шеллинг, цит. по изд. 1987).
В этом весьма емком пассаже Шеллинга сокрыто многое. Тут можно усмотреть и осмысленную попытку выведения дифференцируемых статусов объемной реальности — объектного, субъектного и потенциального-непроявленного. И конечно же, ключевую характеристику этого последнего статуса объемной реальности в виде отсутствия привычных нам (и единственно возможных для апологетов естественно-научного подхода) атрибутов времени и пространства. Но главное в цитируемом фрагменте — абсолютно беспрецедентная роль этого сверхинтересного статуса в обеспечении «бытия» двух других статусов теперь уже объемной реальности, между которыми вот этот невидимый импульс начала всего и вся «парит». Однако еще более важным — с точки зрения продвижения в исследуемой нами эпистемологической проблематике — представляется последний тезис Шеллинга, касающийся того, что и философия, и наука в целом в отсутствие сущностного решения относительно понятных способов репрезентации вот этой загадочной, вневременной и внепространственной основы «всего» так и будут ходить по замкнутому кругу.
Надо сказать, что Шеллинг с его абсолютно выдающейся научной интуицией подошел к сути решения этой ключевой эпистемологической проблемы совсем близко. Так, например, он не считал отсутствие возможностей идентификации вот этой «невидимой» ипостаси реальности современной ему наукой какой-то вечной проблемой. Здесь Шеллинг совершенно определенно высказывается в том плане, что: «Если нам хотят сказать, что первые истоки органической природы недоступны физическому исследованию, то это необоснованное утверждение ведет лишь к утрате исследовательского мужества... То, что наш опыт не дает нам данных о преобразовании одной и той же организации... о переходе одной формы и вида этой организации в другие формы и виды... не является доводом против такой возможности». И самое малое, что здесь можно сказать, — перед нами ответственное утверждение человека, который не утратил, а наоборот, является примером исследовательского мужества и устойчивости к расхожим наукообразным стереотипам, пусть даже исходящим из весьма авторитетных источников.
И далее он говорит о том, что к таким вот переходам и, соответственно, к теме идентификации непроявленных статусов сложной категории реальности, возможно, имеют отношение временные периоды, с позиции которых следует рассматривать данную «запутанную» проблематику. Однако именно это темпоральное направление философской мысли Шеллингом не развивалось, и скорее, наоборот, он все более углублялся в аспекты пространственной организации реальности с вполне предсказуемым результатом — никаких подлинных начал «всего и вся» он здесь не обнаружил. И вот это развитие событий тем более поразительно в случае Шеллинга, поскольку он, как уже было сказано, обладал беспрецедентным даром научной интуиции. Единственным внятным объяснением данного обстоятельства может быть наличие все того же внутреннего препятствия-конфликта, затмевающего даже и такие светлые головы, как у выдающегося мыслителя Фридриха Вильгельма Шеллинга. Факт такого фиаско (он считал, что в итоге так ничего и не добился) Шеллинг переживал настолько тяжело, что все его труды были опубликованы много позже не им самим, а его учениками и последователями. Но подлинная трагедия Шеллинга нам видится в том, что он на уровне своей потрясающей научной интуиции чувствовал, что прошел мимо чего-то крайне важного и значительного (вспоминаем процитированный пассаж из последней книги Юнга в предыдущем разделе).
Однако нам-то никто и ничто не мешает чуть «домысливать» идеи Шеллинга, признавать его беспрецедентные заслуги в разработке подлинно научной концепции «всего», выстроенной с учетом сложнейшей структуры реальности и принципа неустранимости психического из этой теоретической конструкции. И констатировать, что Шеллинг, пожалуй, был ближе, чем кто-либо другой к реализации третьего кантовского шага к созданию совершенно новой науки, ибо он глубоко понимал суть предложенных Кантом революционных преобразований в репрезентации того, что именуют реальностью. Так, в своей почти забытой статье «Иммануил Кант» самую большую заслугу этого величайшего философа Шеллинг усматривает в том, что Кант «… прежде всего коренным образом перевернул представление, согласно которому воспринимающий субъект пребывает в бездеятельности и покое, а предмет деятелен, — переворот, проникающий, подобно электрической искре, во все отрасли знания» (Ф.В.Й. Шеллинг, цит. по изд. 1989). То есть нам здесь прямым текстом говорят о генеративной функции психического в отношении информации о каких-либо объектах, но также и об отсутствии любых пространственно-информационных отношений в реальности при исключении субъекта из этих отношений. Информация, исходя из процитированных и других, еще более определенных высказываний Шеллинга, — как раз и есть то «парящее», что объединяет объектный и субъектный статус реальности. И вот именно такая констатация в эпоху поднимающегося «воинствующего материализма» была проявлением подлинного научного мужества блестящего философа и смелого человека — Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга.
Герменевтика как способ познания чудесного
Исследовательский фокус эпистемологического анализа, безусловно, должен охватывать и такое особое направление — важнейшую компоненту процесса формирования системы кодифицированных научных и любых других знаний, а также информации в целом — как герменевтика. И дело здесь не только в том, что сама по себе герменевтика появилась как искусство толкования священных текстов (священные тексты в большей степени, чем какие-либо другие, нуждались в толковании, а феномен Чуда, позиционируемый в сакральных текстах, — в особенности), но в самой сердцевине феномена понимания как такового; в его несомненном сродстве с феноменом Чуда, причем как в позитивном, проникновенном ключе — «... я на каком-то, ранее недоступном уровне понял и принял божественное проявление чудесного», так и в негативном аспекте — «... я так ничего и не понял». И вот этот последний аспект как раз и привлекает наше повышенное внимание в связи с тысячелетней историей тотального, сумеречного непонимания и неприятия свидетельств «чудесного блеска», предъявленных гениальными мыслителями прошлого. Где же в этом важнейшем деле «провалилась» герменевтика?
Но есть и другие непростые вопросы к герменевтике, прямо или косвенно касающиеся обсуждаемого здесь феномена. Например, такие: почему разные люди вообще понимают друг друга, иногда без слов, а иногда и на расстоянии (вспоминаем Чудо спасения апостолов на Галилейском море)? И участвует ли в этом процессе общая для всех «вселенских деревьев» Сущность (вспоминаем ключевой тезис Шопенгауэра), или только «герменевтически вышколенное сознание человека», по утверждению Ханса-Георга Гадамера? А если такого ограниченного понимания недостаточно, то почему же была разрушена Вавилонская башня — символ понимания и единства народов; или никакого разрушения не было, и вот эта «объективная реальность» — и есть настоящая «Вавилонская башня», в универсальном поле которой первичная информация о реальности одна и та же для всех? И тогда твердая основа такой башни — это вовсе не «камень преткновения», но, возможно, первооснова «краеугольного камня», из которого и выстраивается прочный мост понимания-проникновения между фрагментами расколотого бытия-в-мире? Каким образом эта будто бы единая для всех Сущность в отсутствии такого моста слышит и понимает обращенные к Ней послания (молитвы) в слитном шуме миллионов, если не миллиардов сигналов, либо тут действуют совсем другие закономерности и некий «понтонный» мост все же существует? Ну а мы сами — как мы слышим и понимаем обращенные к нам сигналы «с другой стороны», или подлинные Чудеса — это и есть такие сигналы; и что же мы должны тогда понять и, главное, что и как сделать, для чего и во имя чего все это делать?
То есть поводов для того, чтобы серьезно отнестись к герменевтике, более чем достаточно.
Само это понятие, как уже было сказано, берет начало от первых, наиболее известных толкователей библейских и раннехристианских текстов Аврелия Августина (V век н.э.) и Матиаса Флациуса (XVI век н.э.). И далее герменевтика развивалась уже как направление философской мысли благодаря работам Вильгельма Дильтея, Фридриха Шлейермахера, Мартина Хайдеггера, Ханса-Георга Гадамера, Альфреда Норта Уайтхеда, Поля Рикера, Густава Густавовича Шпета, Валерия Григорьевича Кузнецова и многих других ученых-философов.
Первый интересный момент здесь заключается в том, что герменевтика всеми перечисленными и многими другими авторами понимается в первую очередь как инструмент или — чуть сложнее — как метод гуманитарных наук, некое направление философской онтологии. И даже у Вильгельма Дильтея, автора знаменитого манифеста «Введение в науки о духе» (1883), герменевтика выступает в большей степени как методология исследования психической жизни, но не как ее имманентное содержание. Тем не менее, философская позиция Дильтея является первым аргументированным, отчетливым и весьма резонансным в интеллектуальном пространстве заявлением об ограниченности естественно-научного подхода и принципиальной несводимости к такому подходу сущностных, многомерных представлений о реальности, а также о месте человека в этой реальности. Таким образом, не только информация, но также и понимание сути любого сообщения «парит», как сказал бы Шеллинг, над всеми гранями бытия.
Второй интересный аспект: Дильтей в более поздних публикациях отчетливо увязывает феномен герменевтики с феноменом жизни как таковой: «Когда-то мы стремились понять жизнь из мира. Однако существует лишь один путь от истолкования жизни к миру. И жизнь наличествует лишь в переживании, понимании и историческом постижении. Мы не вносим никакого смысла из мира в жизнь» (В. Дильтей, цит. по изд. 2004). Такую «виталистическую» позицию Дильтей подкреплял аргументами, выстроенными в том духе, что у герменевтики нет никакого самостоятельного предмета, познание которого могло бы служить основанием для познания и вынесения суждения о других, зависящих от него предметах. Таким образом, целостность и уникальность самой жизни и есть исходный пункт понятий герменевтики, в то время как ландшафт реальности, воспроизводимый с помощью естественных наук, есть отвлеченный от феномена жизни полюс универсальных понятий, весьма далекий от этой целостности. Ай да Дильтей — до него таких резких, откровенных и по сути верных заявлений относительно флагманского полюса общего корпуса науки никто и никогда не делал.
Следом обратимся к трудам Гадамера, который делает следующий важный шаг в становлении герменевтики уже как альтернативного способа познания. В своем наиболее известном произведении «Истина и метод», впервые опубликованном в 1960 году, он как раз и представлял герменевтику как особый способ постижения истины в интересующем нас секторе. И здесь он вслед за Дильтеем отмечал более чем существенную разницу в тех способах репрезентации реальности, которые, с одной стороны, предлагает «правильная» наука, а с другой — гуманитарная практика (или так называемые гуманитарные науки). В частности, он констатирует: «Логическое самоосознание гуманитарных наук, сопровождавшее в период их фактического формирования, полностью находится во власти образца естественных наук... То, что гуманитарные науки понимаются по аналогии с естественными, настолько очевидно, что перед этим отступает призвук идеализма, заложенный в понятие духа и науки о духе» (Х.-Г. Гадамер, цит. по изд. 1988). Из этого высказывания Гадамера как минимум следует, что если изучаемый нами феномен Чуда есть деяние Духа — а в этом, на основании всего сказанного, не приходится даже и сомневаться, — то мы находимся в незавидном положении. С одной стороны, у нас явно неадекватные установочные позиции естественно-научного полюса — и в эту сторону как будто бы нет никакого смысла двигаться. С другой стороны, мы имеем нечто «идеалистическое», с которым, в свою очередь, мало общего у науки как таковой. Ибо никакой измеряемой предметности — а это основной критерий «настоящей», согласно Исааку Ньютону, науки — здесь нет и в помине. Остается, следовательно, смутно или более явственно «ощущать» и, собственно, «понимать». Относительно перспектив третьего пути поговорим чуть позже.
Далее Гадамер со свойственным ему интеллектуальным блеском развивает тезисы Дильтея и Хайдеггера относительно необходимости понимания самой герменевтики не как вообще методологии, но как высшего онтологического принципа оформления феномена бытия. Он же и делает первый шаг в направлении формирования метода герменевтического анализа. Здесь Гадамер высказывается следующим образом: «Изначально герменевтический феномен вообще не является проблемой метода. Речь здесь идет не о каком-то методе понимания, который делал бы тексты предметом научного познания наподобие всех прочих предметов опыта. Речь здесь вообще идет в первую очередь не о построении какой-либо системы прочно обоснованного познания, отвечающего методологическому идеалу науки, — и все-таки здесь тоже идет речь о познании и об истине» (Х.-Г. Гадамер, цит. по изд. 1988).
Наконец третья, интересная, на наш взгляд, критическая позиция по отношению к герменевтике как к методу познания некой особенной истины, заключается в том, что вот эти рекламируемые «отходы» от естественно-научных стереотипов, с одной стороны, и «греха» радикального идеализма, с другой, не вполне состоялись. И если уж говорить «прямым текстом» — а герменевтика приветствует наличие прямых, а не скрытых смыслов в транслируемых сообщениях, — то вот эта универсальная методология «понимания», видимо, желая избавиться от всех родимых пятен сразу, забывает о необходимости разрабатывать свою собственную «большую» исследовательскую программу (типичная эпистемологическая ошибка, совершаемая в большей или меньшей степени всеми науками о психике) и берет лишь то, что «под рукой». А это не самый лучший способ избавления от тени, и поныне скрывающей подлинную предметность наук о Духе.
Что же было принято герменевтикой на «вооружение»? Разумеется, это вполне благонадежные, соответствующие критериям принадлежности к общему корпусу науки методы, например, семиотика (наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем), развивающаяся в последние десятилетия сверхбыстрыми темпами (вспоминаем авангардные работы Дж.Л. Остина, П.Ф. Строссона, Дж.Р. Серла, Г.П. Гейтса, Н. Хомского, Дж. Катца, Х. Путнама, Н. Гудмана, И.В. Зыковой, О.И. Глазунова и многих других авторов). Во всех этих работах так или иначе присутствовал восходящий принцип построения исследовательской логики — есть различные знаковые системы, разнообразные несущие контексты, в которых они разворачиваются; из синергии этих составляющих и выводится понимание, несводимое к исходной информации. Так, например, в замечательной работе Ирины Владимировной Зыковой «Культура как информационная система: Духовное, ментальное, знаковое» (2016) рассматривается семь вариантов понимания теста (слова), исходя из контекста — архетипическо-мифологического, религиозно-философского, психологического, эстетического, физико-биологического, социально-этнического, собственно лингвистического. И, следовательно, столько же вариантов понимания категории Духовного.
Несколько по-другому процесс генерации углубленного понимания исследуемой предметности представлен в методологии семиотико-герменевтического анализа, разработанной в том числе в трудах замечательного ученого-философа Валерия Григорьевича Кузнецова. Здесь аргументируется главный принцип объединения герменевтики и семиотики в специальной семиотико-герменевтической методологии. Об этой методологии В.Г. Кузнецов пишет следующее: «Гуманитарные явления многообразны, сложны, разнолики. Чтобы иметь возможность говорить о гуманитарных науках как о некоем целом, нужно ввести некоторое средство, применить достаточно естественный прием для упорядочивания хаоса гуманитарных явлений. И следовательно, таким основным средством исследования должен быть семиотико-герменевтический метод». Им же описывается и общая, понятная схема применения рассматриваемого здесь метода: «текст — ситуация недопонимания — реконструктивная гипотеза — восполняющая интерпретация — теоретическая модель — понимание текста». Принципиальная позиция автора состоит в том, что «Наличие в познавательном процессе теории в качестве структурного элемента повышает надежность понимания. Только в этом случае принцип «объясняя, понимаю» раскрывает свое рациональное содержание» (В.Г. Кузнецов, 1991). Мы же обращаем внимание на другое понятие в приведенной формуле — реконструктивной гипотезы. На что опирается такая гипотеза? И всегда ли объяснительная модель должна быть рациональной? Как же тогда понимать иррациональное?
Первейший методолог науки, который внятно отвечал на подобные вопросы, был, конечно, наш добрый ангел Фома Аквинский. Как и всегда, ясно и кратко преподобный Фома в своей знаменитой «Сумме» говорит о том, что «... при построении систематического знания мы нуждаемся в неких отправных точках, принципах, регулирующих наше мышление, на основании которых мы можем развивать и углублять наше знание о мире» (мы бы сказали, что в данном случае речь идет о системе фундаментальных допущений — главной конструкции эпистемологических платформ, на которых и стоит здание науки).
Ближе к предмету собственно герменевтики Фома Аквинский пишет так: «Мудрость (т.е. философия; а мы помним, что герменевтика — это прежде всего раздел философии, — авт.) отличается от науки не как противоположность от противоположности, но в том смысле, что мудрость обладает дополнительностью по отношению к науке. В самом деле, мудрость есть глава всех наук, направляющая все прочие, поскольку она — о более высоких началах». И совсем уже близко к исследуемому феномену Чуда и адекватному пониманию предметности чудесного святой Фома высказывается в том смысле, что существует и совершенно особенная, сверхъестественная мудрость, «... которая дана Богом в Откровении... является, конечно, более высокой мудростью, поскольку познает вещи через наивысшую причину... не разумом человека, который слаб и затемнен... но в божественном свете, который наисовершенен в своей чистоте и яркости». Но вот и рецепт освобождения от тысячелетней тьмы, нависающей над истоками подлинного Чуда: нужны адекватные отправные точки — фундаментальные допущения, на основе которых выстраивается или «закрывающая» (ограничительная), либо, наоборот, «открывающая» (темпоральная) система мышления современного человека. И мы обязательно обсудим вот эти обновленные параметры эпистемологического порядка в следующем разделе текста.
Плохая новость заключается в том, что в отсутствие таких «отправных точек» в смысле нового понимания чудесного герменевтике просто нечего сказать, если только не повторять хорошо знакомые тезисы, прописанные в яростно отвергаемых материально-идеальных способах репрезентации сложной категории реальности. В этом аспекте герменевтика во многом наследует проигрышный сценарий своих прародителей — метафизики (первичной философии) и прикладной философии.
И если мы принимаем тезис о том, что герменевтика — это прежде всего специальный раздел философии, то мы должны обратить внимание на более чем серьезные претензии к этой после-научной (Аристотель), над-научной (Фома Аквинский) сфере высокого мышления и мудрости, претендующей на статус «царицы наук». Все эти претензии доносятся из естественно-научного полюса общего корпуса науки, но это не отменяет их справедливость, и значимость, и — главное — необходимость форсированных конструктивных изменений в этой важнейшей области мыслительного опыта.
В кратком перечне такие претензии сводятся к следующему:
- философское знание в своей основе — синтетически-априорное (т.е. предшествующее необходимому исследовательскому опыту), а поэтому — умозрительное и спекулятивное;
- там, где философия опирается на данные проведённых научных исследований, — она вторична, по сути, не сообщает ничего нового из того, что не было бы известно науке; то есть в таком своём качестве она абсолютно не нужна;
- философия не имеет своей собственной методологии в строгом смысле этого слова; основной вектор используемых данной дисциплиной исследовательских методов — историография — в существенной степени подвержен субъективным, зачастую полярно противоположным интерпретациям;
- философия, следовательно, лишь мимикрирует под науку; это псевдонаука, которая приносит больше вреда, чем пользы, и поэтому её нужно заменить общей методологией науки, научной картиной мира, психологией научного творчества и научного мышления, логико-эмпирической реконструкцией динамики науки;
- философия не способствует формированию целостного мировоззрения, то есть утратила своё основное предназначение; вместо этого она предлагает фрагментарные, противоречивые концепты, где почти каждому тезису соответствует антитезис;
- философия излишне абстрактна, ее язык сложен для усвоения; таким образом, философия не проясняет, а усложняет поиски решения сложных проблем бытия современного человека (а что же герменевтика, — молчит? — авт.).
В качестве эссенциального объекта для всего вышесказанного, конечно же, выступает метафизика — концептуальное ядро философии как целостной дисциплины — и в существенно меньшей степени прикладные разделы философии, разрабатывающие прагматические аспекты состоятельных научно-практических направлений. Последние во многом заимствуют не самый лучший (другого просто нет) методологический инструментарий охватываемых областей знаний, чем дают дополнительный повод для констатации того, что философия дробится на самостоятельные и почти не связанные фрагменты и практически полностью утрачивает свою целостность. В данной ситуации абсолютно логичным представляется упразднение философии как целостной дисциплины, и особенно её метафизического ядра, с тем чтобы в поле современной науки остались лишь прикладные аспекты философии, имеющие относительную ценность.
К этой констатации можно лишь добавить, что философия в тот момент, когда она прекратила генерировать привлекательные и стимулирующие концепты бытия, перестала быть мудростью, тем более — высшей мудростью; она не смогла далее олицетворять высший принцип дополнительности, не находя, чем же она может дополнить: стилистику мышления в авангардной науке, сложные модели реальности, но также и религиозные концепты бытия. В философии угас свет Чуда божественного откровения. Почему же?
И поскольку и в философии, и тем более в герменевтике приветствуется донесение смыслов также и через метафорические образы, попробуем прояснить создавшуюся ситуацию, используя бессмертные строки японской поэтессы Есано Акико:
Сказали мне, что эта дорога
Меня приведет к океану смерти,
И я с полпути повернула вспять.
С тех пор все тянутся передо мною
Кривые, глухие и окольные тpопы…
И все это вместо того, чтобы изучать феномен Духа с использованием им же предоставляемых сил и средств.
Попробуем все же реанимировать эти будто бы утраченные функции философии и герменевтики.
С позиции авангардной науки, герменевтика в этом случае должна дополняться:
- инновационной эпистемологией (у нас — новой концепцией и методологией эпистемологического анализа, в общем функциональном пространстве которого модифицированный метод семиотико-герменевтического анализа является «встроенным» компонентом);
- методом психотехнического анализа (этот метод также является «встроенным» компонентом эпистемологического анализа), за счет использования которого становится понятной роль психического-целого в реализации феноменологии чудесного;
- возможностью актуализации имманентных свойств психического-целого, которые можно представить в том числе и метафорой Даров Святого Духа либо даже сущностью Духа, обеспечивающего процесс адекватного и практически моментального «перевода» одних планов сверхсложной, объемной реальности в другие такие планы;
- адекватным пониманием (внятной объяснительной моделью) пластичной и одновременно генеративной сути процессов темпорального взаимодействия дифференцированных статусов объемной реальности, в итоге реализующего феномен чудесного.
Такая обновленная и дополненная модель самой герменевтики (в следующих разделах она будет конкретизирована и расширена) позволяет наконец пролить свет на некоторые собственно герменевтические чудеса, о которых мы сейчас и поговорим. Что же касается психотехнического анализа некоторых канонических чудес и, главное, наиболее востребованных, но еще не состоявшихся чудес Новейшего времени, то этот интересный и важный вопрос мы рассмотрим в специальном разделе нашего текста.
Главные герменевтические вопросы у нас такие: почему святой Иосиф сразу же понял метафорическую суть навязчивых и кошмарных сновидений фараона, а его приближенные маги-колдуны — не смогли; и почему фараон поверил Иосифу (последний в это самое время был преступником, доживавшим свой короткий век в подземной каменоломне), а не более респектабельному предсказателю. Что же такое — с позиции обновленной герменевтики — Дары Святого Духа, и как вот этот Дар помог Иисусу спасти своих спутников-апостолов во время бури на Галилейском море. Все эти примеры «герменевтики в действии» происходили очень быстро, воспринимались как Чудо провидения, прорицания, а в случае с Иисусом — еще и Чудо прохождения по бурным водам Галилейского моря и управления погодой (он остановил морскую бурю).
Итак, первый чудесный пример уникального способа понимания образного языка сновидений был приведен в библейском сюжете об Иосифе и его братьях: Иосиф остался в исторической памяти не только потому, что вначале спас народ Египта от неизбежной голодной смерти, а затем и свой собственный народ от такой же участи, но также и в основном он известен тем, что умел разгадывать судьбоносные сновидения. Иосиф, по материалам реконструкции, делал это следующим образом: отбегал в темный угол помещения (изначально это были каменоломни египетского фараона), где он чудесным образом преображался, складывал руки на груди и особым тоном произносил следующее: «Мой бог говорит мне, что рассказанный сон о ...», и далее он раскрывал подлинный смысл метафоры сюжета сновидения. Благодаря этому Иосиф и оказался в поле внимания могущественного фараона, измученного непонятными и ему, и придворным магам снами. Интересно здесь то, что фараон, согласно библейской истории, безоговорочно поверил интерпретации Иосифа. Именно таким образом и случилось главное Чудо спасения двух великих цивилизаций.
С позиции психотехнического анализа особое состояние Иосифа в момент толкования сновидений можно интерпретировать именно как «присутствие Духа», т.е. актуализацию имманентных свойств психического-целого, понимаемых как способность к «гнозису» или темпоральной пластике, акцентированную персонификацию психического-целого в виде «Моего Бога». А раз это «Мой Бог», а не чей-то еще, то у меня с ним не ограниченная односторонняя (я молюсь своему Богу), но полноценная двусторонняя коммуникация (Он отвечает на мои молитвы), а в случае с Иосифом вот этот актуализированный Дух и являлся «переводчиком» непростой и судьбоносной для народа Египта символики сна фараона.
Однако в этом эпизоде присутствует и еще одно скрытое Чудо. Бог фараона не дремлет, когда фараон спит. Он отправляет ему пророческие сновидения раз за разом, т.е. упорно стучится в закрытые со стороны фараона двери его психики. Но когда правитель Египта наконец нашел истинного герменевтика Иосифа, Бог фараона однозначно указал на истинность толкования Иосифа. Можно даже предположить, что фараон ощутил некий «трепет», который каждый человек чувствует при явлении божественного Чуда. «Детектор правды», всегда присутствующий в тех самых актуализированных инстанциях психики, практически не ошибается. И тем более этот чудесный «инструмент» не ошибается у фараонов, для которых весьма часто это вопрос жизни и смерти. Ну а в описываемом случае — это вопрос жизни и смерти народа фараона, народа Иосифа, решившийся в этот раз в сторону жизни.
Чудо дистанционного понимания, продемонстрированное в ходе известного эпизода с бурей на Галилейском море, еще и с «хождением» Иисуса по воде и управлением погодой, имеет сложную историю. Для начала нам надо понять, в каких отношениях к этому времени находились все участники эпизода — Иисус, Петр, его брат и другие братья-рыболовы, в будущем апостолы.
И вот история:
Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,
и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.
И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним (от Матфея. 4:19-22).
То есть Иисус и сам, конечно, был «ловцом человеков», причем не только простых и честных рыболовов, но и мытарей (Матфей), и полицейских (Павел).
И если такая «ловля человеков» — это установление особо доверительных отношений между Учителем, способным в любой момент актуализировать суперресурсный статус и присущий этому статусу «гнозис», и так называемые высшие силы (вспоминаем великого Патанджали, у которого высшие сиддхи-силы — это высшее слышание, зрение, осязание, интуитивное знание), и учениками, способными находится на гностическом уровне коммуникации (так называемый четвертый коммуникативный уровень), то все произошедшее вполне объяснимо. Транслируемый образ Иисуса, шествующего по воде, перевел испуганных рыбаков в резонансный ресурсный статус. А в этом особенном состоянии никакие бури ужу не кажутся фатальными или чрезмерно сильными. И если мы скажем, что будущий апостол Петр (Симон), его брат Андрей и два других брата, Иаков и Иоанн, в этом эпизоде «видели» Духовный Образ Иисуса, скользящий над водной поверхностью по направлению к их лодке, то никакой натяжки здесь не будет.
Отсюда актуализированное присутствие особого суперресурсного статуса психического целого, персонализированного в образе Духа, есть несомненный предиктор возможного развития чудесных событий. Такое почти буквальное «присутствие Духа» как раз и запускает процессы сингулярного взаимодействия дифференцированных в особых темпоральных режимах статусов объемной реальности. И вот этот, «неподъемный» даже и для сверхсложного компьютерного моделирования, процесс на уровне психического идентифицируется как понимание, проникновение, озарение и проч.
В данной связи понятен и смысл замены первой строки в тексте молитвы Иисуса у Марка и Матфея «Отче! Да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое...» на следующую пропись: «Отче! Да святится имя Твое. Да придет Святый Дух Твой на нас, и очистит нас...» Заметим, что последний вариант в прагматическом, ресурсном смысле гораздо более точен и конкретен. Автор этого последнего варианта евангелист Лука, ближайший сподвижник, а по некоторым данным, и лечащий врач апостола Павла, в совершенстве владеющего словом и даром убеждения (у самого Павла с присутствием Божественного Духа, как мы знаем, все было замечательно), возможно, усвоил особенное отношение Павла к проблеме единения человека с Богом, обретения вследствие такого единения суперресурсного состояния Веры, Надежды, Любви. Полагаем, что искушенность во всех этих вопросах и ресурсный статус самого Павла во многом помогли именно ему стать главным апостолом-агитатором, а в итоге и фактическим организатором римско-католической церкви.
Далее обратимся к описанию герменевтической сути Духовных Даров, или харизме (в раннехристианской традиции харизма — это содействие, ниспосылаемое Святым Духом). Такого рода содействие, в соответствии со священными текстами, заключается в следующих дарах: тройные дары откровения (мудрость, знания и умение различать духов); тройные дары силы (Вера, Чудеса и исцеление); тройные дары речи (пророчества, глоссолалия — спонтанная речь на незнакомом языке, толкование языков). Все здесь перечисленное, с нашей точки зрения, еще даже более подробное описание номинации «высших сил», чем у великого Патанджали.
Полагаем, что речь в данном случае идет о наиболее ярких проявлениях способностей к темпоральной пластике или гнозису, которые, собственно, и обеспечивают первую «тройку» Духовных даров: необходимую глубину и особое качество знаний, способность к генерации «дополняемой реальности», определяемых емким термином «мудрость». Отсюда же и возможность «различать духов», т.е. генерировать и персонализировать — с использованием естественного «темпоскопа» психического (эту сверхважную новацию мы будем обсуждать в заключительном разделе нашего текста) — различные планы объемной реальности, весьма отличающиеся от стандартно форматируемого плана «объективной» реальности. Вот это и есть наиболее значимые компоненты «инновационной» герменевтики, в том числе обеспечивающей проникновение в скрытую «механику» чудес.
Безусловно, наше внимание привлекает и следующая серия тройных даров, тем более что именно здесь фигурирует интересующий нас феном Чуда, и конкретно Чудо исцеления. Здесь важно то, что феномен Чуда в данном контексте является признаком действенной силы, актуализированной в психическом субъекта суперресурсной персоны Духа. Из всего сказанного выводится следующий алгоритм подготовки и реализации чудесного эксцесса: актуализация генеративной функции гнозиса: персонификация получаемых таким образом изменений в темпоральной конфигурации статусов объемной реальности в качестве эонов-ангелов-духов-богов; драматическое изменение метапозиции вовлеченного в данный опыт субъекта с осознанием суперресурсного потенциала воссозданной целостности (данное особое состояние обычно интерпретируется как гностический, мистический, религиозный опыт, или опыт обретения Веры); собственно реализация, либо вовлеченное свидетельство реализации феномена Чуда (что не особенно различается в условиях тотальной темпоральной пластики), с присущим сопереживанием особого «трепета» и, возможно, соприкосновения-проникновения в глубинную суть происходящего — такое переживание трудно вербализовать или описать, обыденные термины и слова здесь неадекватны полученному опыту. Но и далее все непросто и многозначно: переживаемый эксцесс может оставить слабый след (есть многое на свете, друг Горацио...); такого рода свидетельство может, например, подвигнуть вовлеченного субъекта к обращению в тот или иной конфессиональный вариант веры в Бога; наконец, феномен Чуда может быть воспринят как действенное свидетельство обновленной, потрясающей в своей грандиозности идеи подлинного бытия, лишенного страха жизни и страха смерти и сопровождающегося переживанием единства всего сущего и открывающихся в данной связи невероятных возможностей, что, собственно, и является целеполаганием обновленной герменевтической концепции в данном конкретном случае.
С тем чтобы завершить тему герменевтики и присутствующей здесь возможности углубленного понимания-проникновения в суть чудесного, обратимся к герменевтическому опыту, пожалуй, наиболее квалифицированного эксперта-практика в истории, величайшего толкователя истинно чудесного — апостола Павла. При этом заметим, что читаемые и обсуждаемые во все времена блистательные послания-письма святого Павла — это, конечно, пособия по герменевтике чудесного.
Наилучшие подтверждения такого рода содержатся и в наиболее известных фрагментах Первого послания апостола Павла к коринфянам, а также и в других фрагментах этого примечательного документа, проясняющего важнейший контекст цитируемых высказываний Иисуса и некоторых ключевых пассажей 13-й главы этого знаменитого Послания.
Так, еще в первой главе Послания Павел ясно говорит о том, что божественные смыслы (мудрость) коренным образом отличаются от человеческих смыслов бытия: «...немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков» (Апостол Павел, Первое послание к коринфянам). И здесь же он указывает, что вот эта божественная мудрость может быть доведена до неискушенного человека лишь посредством совершенно особенного обращения: «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (термин «юродство» здесь надо понимать как разрыв шаблона обыденных смыслов, сродни безумию; то, что мы проповедуем, — говорит Павел, — для эллинов безумие).
Во второй главе Послания Павел раскрывает суть вот этого особого обращения, за счет которого он и апостолы проповедуют «премудрость Божию, тайную, сокровенную». Здесь он говорит так: «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». И далее необходимые для божественной проповеди явления духа и силы Павел трактует как совершенно особый Божий Дар, который в свое время получили апостолы: «А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Такого рода Божий Дар — это нечто, невидное и неслышное в обыденном состоянии, но только лишь в особом состоянии, которое Павел как раз и обозначает как любовь к Богу, этот Дар может снисходить к человеку: «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (здесь Павел ссылается на прямую речь Иисуса, приведенную в гностическом Евангелие от Фомы: «Иисус сказал: Я дам вам то, чего не видел глаз, и то, чего не слышало ухо, и то, чего не коснулась рука, и то, что не вошло в сердце человека», — в этой цитате вся сокровенная суть гнозиса). В этом особом состоянии любви к Богу, согласно тексту 12-й главы Послания, переживается не только единение с Богом, но и единство людей, объединяемых этим мощным посылом: «И вы — тело Христово, а порознь — члены.... Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены... дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Ну вот и «Единый ствол» и «деревья-ветви этого ствола» (вспоминаем Шопенгауэра). Что же касается состояния Божественной Любви, то у Павла это совершенно особенный уровень прежде всего познания: «... познаю, подобно как я познан».
В последнем пассаже рассматриваемой главы Павел прямо призывает к тому, чтобы читатели его Послания, жители Коринфа, страстно возжелали Божественных даров, и прямо говорит о том, что ему-де и ведом путь обретения таких Даров: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший», в контексте чего и следует понимать знаменитые сентенции о Любви, прописанные в 13-й главе Послания. Речь здесь идет прежде всего о способах обретения Божественных даров, которые перечислены и описаны Павлом с потрясающей силой поэтического таланта, а также и с указанием степени их состоятельности в отношении достижения желаемой цели: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».
То же и в свидетельстве самого Павла, который в первой же фразе следующей, 14-й главы взывает: «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». То есть самый главный, пророческий, дар, безусловно связанный с темпоральной пластикой психического (или гностическим способом познания реальности), ассоциируется у Павла с экстатическим состоянием Божественной Любви.
И вот еще одно глубокое размышление от Иоанна Златоуста, комментирующего послание апостола Павла, каким же образом — благодаря вот этому особому познанию — мы обретаем присутствие Духа в поле психического: «Никто из людей никогда не находил и не найдет Бога — что Он есть по естеству и сущности… Найдет же, как я думаю, когда это богоподобное и божественное, то есть наш ум и наше слово, соединится со сродным, образ взойдет к Первообразу, к Которому теперь стремится. И это, как мне кажется, выражается в том весьма любомудром учении, что мы познаем, подобно как мы познаны» (Иоанн Златоуст, свт. (†407).
Итак, если конечный результат такого углубленного понимания-проникновения-познания ведет к актуализации в поле психического суперресурсной инстанции Духа и сопутствующих ему высших сил, и далее — к процессу получения Даров (т.е. реальной способности совершать поименованные в каноническом описании Святых Даров чудеса), то без всякого ерничества повторим, что вот такое знание — это не просто сила, но еще и метафорическая возможность «передвигать горы». А в нашем случае, с учетом почти неподъемных задач Новейшего времени, такая особая сила, новые способы познания и обновленные знания особенно нужны.
Философия чудесного в Новейшем времени
Нельзя сказать, что мыслители-философы Новейшего времени как-то особенно продвинулись в интересующем нас направлении. Ведь если бы такое случилось, мы с вами осуществляли бы свой путь по крайней мере в более «освещенном» интеллектуальном и, не исключено, социальном пространстве.
Тем не менее, отметим резонансную работу Рудольфа Отто «Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным», впервые опубликованную им на рубеже Нового и Новейшего времени в 1917 году. Применительно к исследуемому нами феномену Отто «смешал все карты» в отношении расхожих штампов рационального и иррационального. И он ярко и ясно показал, что вот это будто бы «иррациональное» на самом деле имеет более близкое и понятное отношение к реальности, чем пресловутое рациональное. Ну а для нас особенно ценным является тот факт, что все эти неординарные утверждения он вывел на примере отношения к чудесному.
В частности, Р. Отто пишет следующее: «Явно ложным или, по крайней мере, очень поверхностным является часто проводимое различие, состоящее в том, что рационализм — это отрицание “чуда”, а его противоположность — признание чуда. Расхожая теория чуда — как случайного нарушения в естественной цепи причин со стороны той сущности, которая сама же эту цепь установила, а потому должна над нею господствовать, — сама «рациональна» настолько, насколько это вообще возможно. Рационалисты достаточно часто допускали “возможность чуда” в этом смысле и даже априорно ее конструировали. А решительные не-рационалисты довольно часто были равнодушными к “проблеме чуда”» (Р. Отто, цит. по изд. 2008).
И далее в этом же ключе Отто рассуждает об рациональном и иррациональном в самой идее Бога, что для нас также важно, ибо, как понятно из всего вышесказанного, подлинные чудеса предполагают наличие и участие в этом свершении некой духовной сущности. Здесь Отто говорит так: «Когда речь идет о рационализме и его противоположности, то важнее свойственное им качественное различие в настроении и в содержании чувств самой набожности. А это различие обусловливается прежде всего тем, перевешивает ли рациональное в идее Бога иррациональное в ней или же оно совершенно исключает его, или наоборот».
В заключительных разделах своего труда Рудольф Отто ясно и убедительно говорит о предрасположенности человека к особой религиозной интуиции, которая может и не быть реализована в феномене Веры или иной форме религиозности. Но такая общая предрасположенность сродни некоторым проявлениям психической активности, без которых невозможно представить личность, безусловно имеется. Мы бы здесь сказали, что речь идет о «пунктирных», или более отчетливых способностях к «гнозису», ибо автор прямо увязывает эту особенную интуицию с чувством истины. Отто утверждает, что прорицание такой истины возможно «... не в силу принудительности логического вывода из понятийных посылок, но из одного лишь признания, из чистого и неразложимого на составные части чувства истины, которое ни из каких посылок не следует. Именно такова истинная дивинация или религиозная интуиция.... Из этой интуиции проистекают необходимые для нас и независимые от экзегезы и авторитета первоначальной общины дальнейшие интуиции: личности, дел и слова Иисуса, которые впоследствии разворачиваются в вероучении. Это интуиция «священной истории», интуиция ее пророческого приуготовления и исполнения. Это интуиция «мессианства» Христа как того, в ком осуществились предвестия пророков, закона и псалмов, все ветхозаветные устремления и предчувствия, того, кто предстает как высшая ступень и вершина всего предшествующего развития» (Р. Отто, цит. по изд. 2008). То есть речь идет еще и о гностической телеологии, некой программе нашего движения по дорогам цивилизационного развития, логика построения которой уж точно не выводима из линейных и плоских представлений о реальности. С этим невозможно не согласиться.
В чем-то созвучные идеи в отношении роли интуиции в процессе познания сложной категории реальности высказывает философ и теолог Дмитрий Кириллович Богатырев. В своем объемном труде «Мышление и откровение. Систематическое введение в христианскую метафизику», наряду с традиционной в теологии точкой зрения о неполноте логического познания (т.е. разума), Богатырев говорит и о том, что «В познании, если пользоваться языком феноменологии, происходит «схватывание». Сознание же работает с уже-схваченным, усвоенным. Мышление же есть оперирование схваченной и усвоенной информацией» (Д.К. Богатырев, цит. по изд. 2022).
Что же касается концепта такого способа познания, как интуиция, то у Богатырева интуиция — это не то, что дополняет картину реальности, задаваемую разумом, но то, что объединяет и оживляет эту панораму реальности: «... интуиция соединяет чувственное и рациональное, создавая ток информации между ними»; и далее в тексте Богатырева следует красочная метафора: «Медь чувственности и серебро интеллекта объединяются золотом интуиции». Саму же эту сферу активности психического, судя по некоторым другим фрагментам текста, автор приписывает категории Духа. «Познание, — пишет он, — дело духа, который являет себя не иным как для сферы чувственного (иного), так и для области рационального (тождественного)».
Вопрос только в том, каким же образом с участием интуиции и носителя этого свойства — духа — «... познающая личность трансцендирует, раздвигая свои конечные пределы». И здесь, чуть забегая вперед, можно предложить некоторое уточнение к только что приведенной констатации, аргументируемое с позиции авангардной науки о психике. Процесс «раздвигания пределов» как раз и предполагает активное вмешательство персонализированной в данном случае инстанции психического (то есть Духа) в моментальную процедуру «схватывания» первичных информационных конгломератов реальности. В результате чего эти будто бы стандартные характеристики «объективной» информации о реальности приобретают свойство пластичности. И далее за счет использования обновленных «строительных блоков» выстраивается, во-первых, дополненная структура личности, а во-вторых — обновленная панорама объемной реальности. Такая объяснительная модель позволяет уточнить некоторые аспекты Чуда божественного откровения и привнести эти аспекты в сферу осмысленной репрезентации сложной категории объемной реальности; а также, что очень важно, — вывести из густой тени порядком надоевшие речитативы об иллюзорности явленного нам мира. С одной стороны, нам об этом в продолжении тысячелетий твердят духовно прозревшие мудрецы, ну а с другой — уже в Новое и, особенно, в Новейшее время — представители авангардной (как они сами думают) науки. И те и другие плохо представляют себе, что же такое реальность, и единственная иллюзия, которая в данном случае имеет место, — это их собственные представления о подлинном Чуде реальности.
Следуя эпиграфу, который Д.К. Богатырев выбрал для своего труда — «... но преобразуйтесь обновлением ума вашего» (строки из Послания Римлянам, 12:2), — обратимся к рекомендациям митрополита Вениамина, как это сделать в отношении интересующей нас темы чудесного. Эти рекомендации были прописаны Вениамином (Федченковым) в одной из его главных книг «О вере, неверии и сомнении». Здесь он говорит так: «...отрицатель может выставить такое возражение: чудеса противоречат уму нашему. Это неправильно … в логике следует различать два термина: «противоречие» и «противоположность». Это не одно и то же» (Вениамин (Федченков), цит. по изд. 2011). И далее Вениамин поясняет, что в противоречивых отношениях одно исключает другое, а в противоположных — нет. Поэтому всякий неверующий в чудеса в самом крайнем случае должен сказать о других мирах и их законах «Не знаю». Больше того, он, как ничего не знающий о них, может даже допустить не один сверхъестественный мир, а любое множество их. «Таким путем, — говорит Вениамин, — мы убрали с пути еще один камень: из неподобия нельзя делать выводы о небытии чего-нибудь, поэтому чудес не бойся!» (цит. по изд. 2011).
Мы же обратим внимание на то, что из окраин противоположности в нашей теме чудесного еще не выводится заветная «середина» краеугольного камня. И одно дело «допустить не один сверхъестественный мир, а любое множество их», а совсем другое дело — на понятных темпорально-пластических принципах моделировать вполне легальные планы объемной реальности, которых может быть больше, чем страниц в замечательной книге митрополита Вениамина. И конечно, перед такой панорамой реальности сердце замирает не от страха, а от восторга.
В этом же ключе — преобразования и обновления нашего ума — продвигался и Клайв Стейплз Льюис, известный британский философ и теолог. В своей резонансной работе, которая носит незатейливое название «Чудо», Льюис под разными углами рассматривает тезис о том, что единственное «место», где есть раскол в репрезентируемых нами компонентах сложной категории реальности фрагментах, — это наш разум. Граница проходит не между «материальным» и «нематериальным» и не между «телом» и «душой» (все четыре понятия очень непросты), — пишет Льюис, — а между природой и разумом; и отсекает она не «меня» от внешнего мира, а разум от внеразумных явлений, и физических, и душевных. Но далее Клайв Льюис выдвигает тезис, который как раз и содержит ключевой «разрыв» в сфере разумного: «...любые события во времени и пространстве поддаются разуму», из чего в соответствии со скрытой логикой этого утверждения следует, что вне категорий времени-пространства разум «не работает» либо действует «как-то не так» (вспоминаем фундаментальный тезис Канта о том, что в априорно заданных категориях времени-пространства, а значит, и в области «чистого разума» каких-то признаков божественного присутствия (а значит, и божественного Чуда — авт.) обнаружить не представляется возможным). И вот если нет ясности с этим «как-то не так», то продвинуться в понимании Сущности, которая, — говорит нам Льюис, — в числе прочего создала и время, и пространство, точно так же не представляется возможным. Попутно заметим, что нет ясности и с «принципами дополнительности» от великого Канта — понятиями трансцендентного и трансцендентального, вокруг которых вот уже более двух столетий отмечается «броуновское движение» молекул философской мысли. Однако, как мы полагаем, достойный выход из этого безмерно затянувшегося «кругового движения», безусловно, есть, стоит только принять и основательно проработать концепт темпоральной логики. Но об этом чуть позже.
Главная же заслуга труда Льюиса в интересующем нас эпистемологическом аспекте видится в том, что он во многом предварил идею информационной генетики, лежащей в основе методологии эпистемологического анализа (у нас эта особенная «генетика» как раз и включает принципы темпоральной логики). Льюис показал, что любые ограничительные идеи (эпистемы), лежащие в зародыше вполне определенных в этом смысле концептов материализма, пессимизма, оптимизма, пантеизма, утверждений, что «все на свете — Бог» или «все на свете — электричество», в итоге ведут к непреодолимым сложностям. А значит, должен существовать и другой принцип формирования наших представлений о реальности (такая «открытая» реальность по Льюису — это и есть Чудо из Чудес, и здесь просто нечего сказать, кроме «браво!»). Согласно Льюису, данный принцип наилучшим образом реализуется в доктрине Воплощения: божественная сущность воплощается в том числе и в природе. И далее он использует красочную метафору для обозначения принципов взаимодействия всех главных фигурантов этой доктрины: «Чудо — это текст, природа — комментарий. Наука — лишь примечания к поэме Воплощения» (К.С. Льюис, цит. по изд. 2021). Отдавая должное новаторству Льюиса, все же заметим, что с последним утверждением относительно роли науки согласиться сложно, ибо наука науке — рознь. И если это действительно авангардная наука, которая решительно освобождается от неадекватных эпистемологических ограничений прошлого и не прячется за нелепые утверждения того, что все на свете — процитируем критическое замечание Мартина Хайдеггера — это «некие заряды и волны», то скорее уж это ключ к подлинному открытию потрясающей панорамы объемной реальности. И вот именно такая наука и помогает нашему психическому справляться с этой задачей «по первому требованию», а не «по случаю».
Сходную точку зрения на миссию современной науки высказывают: Людмила Александровна Латышева в своей космогонической версии чудесного (1998), известный российский философ и теолог Виктор Петрович Лега в статье «Проблема чуда и современное научное мировоззрение» (2010). А также Римма Ивановна Соколова, известный специалист в области философии и политики.
В своем экспертном докладе Изборскому клубу (2013) Р.И. Соколова в том числе рассматривает противоречивые тенденции в отношении к феномену Чуда, присутствующему в общем поле современной науки. Она говорит о том, что: «Различные необычайные и необъяснимые явления становятся чудом только при определённом способе их истолкования. Однако при скептической или естественно-научной оценке всегда есть возможность отрицать наличие чуда и объяснять такие явления как продукт первобытного анимизма, как результат гипноза, внушения, вымысла или даже прямой фальсификацией фактов, галлюцинациями или неизвестными ещё явлениями и законами природы» (Р.И. Соколова, 2013). Далее в анализируемом тексте есть прямое указание на ограничительные эпистемологические установки. Здесь Соколова обращает внимание на то, что в материалистических и позитивистских системах философии и науки Нового времени мир не мыслится иначе как подчиненный неизменным правилам последовательности, выражающимся в законах природы. Однако, замечает она, так же ясно, что сама по себе сущность и семантика понятия чуда требует выхода за рамки гуманитарных наук и коренного переосмысления знаний, накопленных не только философией, но и психологией, физиологией и т.д.
И далее Соколова использует концептуальную атрибутику из сектора «авангардной» физики для конструирования объяснительной модели феномена Чуда, более соответствующей реалиям сегодняшнего дня: «За пределами физического мира существует еще более сложно организованный волновой мир. Именно волновая функция (его синоним — Дух в ненаучной системе понятий) управляет материальным миром, который без нее оставался бы мертвым. Информационный контур, связанный с нейросоматическим и нейрогенетическим контурами человека, замыкает на себе потоки энергии и получает возможность целенаправленно перестраивать, то есть менять конфигурацию бытия, объективный мир, который есть не что иное, как доступная человеку часть мультиверсума» (Р.И. Соколова, 2013). В то время как Хайдеггер, например, полагал, что как раз использование такой «атрибутики», рядящейся в концепты авангардной науки, и является одним из главных препятствий в нахождении сущностных ответов на непростые вопросы бытия. Справедливости ради специально отметим «по делу» используемое Соколовой понятие «связующий информационный контур», как и то, что без уточнения сущностных моментов, актуализирующих такой «контур», ценность данного понятия снижается.
При наличии тотального дефицита в сфере таких проверенных способов и даже гипотетических моделей осмысленной, целенаправленной «активизации» феномена Чуда в принципе, в анализируемом тексте приводятся традиционные примеры магического воздействия на ход событий в хорошо знакомой нам «объективной» реальности, которые интерпретируются автором как «воздействие информационной субъективной компоненты мира на его материальную составляющую». Здесь автор аргументирует такую точку зрения, что живущий в пограничных, экстремальных условиях народ вынужден был творить «чудеса». Причем древней, невероятной силы психотехникой овладел практически целый народ, и всё это происходило почти мгновенно. Ну что же, времена бывают разные, и ныне, судя по всему, пришло такое время, когда к этим народным всплескам чудес совсем нелишне добавить и некие другие, особенно востребованные Чудеса от их главного устроителя.
Ибо в подлинном Чуде не только «...возрождается память веков и обнаруживается вечность прошедшего, неизбывная и всегдашняя», как писал великий русский философ Алексей Федорович Лосев в своей великолепной работе «Диалектика мифа» (1930), но и Вечность, охватывающая все возможные векторы и направления времени — прошлого, настоящего, будущего, вечного-бесконечного.
Продолжение следует.













































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать