
Никогда мне не приходилось писать рецензии на фильм, и данный текст не является ею. Пытаюсь через эти строки прожить, допрожить всколыхнувшиеся эмоции, которые не оставляют в покое после просмотра. Оголились мои чувства, и, конечно, первый вопрос к себе: «Какая моя раненая часть проявилась? Она стонет или вопит? Что с этим делать?» Через общение со своими клиентами и размышления пробую осознать происходящее.
События того дня соединились в неразрывную цепочку, подтверждая взаимосвязь всех и всего.
21 июня 2025 года в Москве была заявлена премьера ирландского документального фильма о болезни Альцгеймера «Не забывай помнить» 2024 года выпуска режиссера Росса Киллина.
Картина представлялась в рамках открытия 5-го биеннале фильмов о психическом здоровье «Доку-mental». Реклама зазывала зрителя реальной историей ирландской семьи и трогательными отношениями между главной героиней Хеленой, страдающей болезнью Альцгеймера, и ее сыном, уличным художником Asbestos.
Предлагала погрузиться и исследовать особенности процессов запоминания и забывания. Найти ответы на болезненные вопросы: «Как «отгоревать» свою боль, и возможно ли «отгоревать» ее вообще? Как смириться с тем, что любимый человек угасает еще при жизни?»
Информация была размещена на сайте благотворительного фонда, который занимается данной тематикой. Привлек комментарий подписчиков: «77 минут читать субтитры на русском языке — очень для меня напряжно. Когда годами ухаживаешь за угасающим, еще и кино смотреть? Да вы прикалываетесь. Чтобы еще грустнее было? Чтобы что-то еще понять? Хахаха».
Многие годы основной частью моей профессиональной направленности являются пожилые люди, страдающие различного вида деменцией, болезнью Альцгеймера, помощь их семьям, сопровождение паллиативных пациентов и их близких. Грубо, но откровенно: в старческом маразме и его проявлениях я нахожусь каждый день. В работе с болеющими и умирающими людьми нужны духовные силы для сопровождения их и близких после их смерти. В работе с умирающими важно самому быть живым. Важно находить время для отдыха, для самого себя.
В данном случае сама я действовала наоборот, ещё и коллегу пригласила на явно тяжелый фильм. К тому же субтитры в такой теме трудно отнести к сохранению психического здоровья зрителей. Но профессиональное взяло верх еще и интересом к обещанному обсуждению картины с неврологом, участником экспертного совета данного фонда, и профессиональным художником.
21 июня выпало на субботу, но выходной день начался в 4.30 утра. В Whatsapp пришло сообщение с просьбой о срочной консультации. Обратившаяся женщина несколько месяцев мучается от подозрений своего пожилого мужа в сексуальной расторможенности. Нашла в интернете мои статьи на эту тему, сопоставила со своей реальностью, стала подозревать деменцию. Первая моя мысль была: «Вы видели, который час, когда писали незнакомому человеку, тем более в выходной день?» Вторая: «Наверное, она из другой страны. Не учла разницу во времени». Третья: «Господи, бедные родственники болеющих… Не дай Бог…»
В пути на премьеру фильма пришло еще одно сообщение от неизвестного человека, по рекомендации друга от друга. Мама писавшей женщины страдает болезнью Альцгеймера несколько лет. Ни одна сиделка не выдерживает сопровождение, семья не справляется ни с уходом, ни со своими эмоциями. В краткой беседе я предложила рассмотреть вариант принятия помощи со стороны специализированного учреждения. Отправила ссылки на статьи: «Эмоциональное выгорание ухаживающего. Что делать?», «Как остаться живым?», «Как решиться на переезд в пансионат?». Женщина сказала, что это категорически исключено. В дом престарелых она свою мать не сдаст.
Это документальная предыстория встречи с документальной историей.
Само пространство и клиенты вынуждают описать впечатление от просмотра фильма «Не забывай помнить» в хронологическом порядке. Это дает понимание неразрывности между специалистом и клиентом, личным и общественным, внутренним и внешним, старым и новым, живущим и отмирающим.
В 19:00 в кинозале погас свет.
На экране появилась заставка, фотография в формате пазла из девяти частей. Замелькали рисунки, фотоснимки, лица, постройки, люди. Обрывками, накладываясь один на другой, быстро. Как волна смывает рисунок на песке, так мелькание изображений не давало возможности за что-то зацепиться, рассмотреть, запомнить. В глазах пестрило, голова слегка закружилась. Вглядываться, чувствовать себя и пытаться успевать читать субтитры становилось испытанием с первых кадров. Уверена, этим эффектом оператор картины хотел зрителю дать понять и прочувствовать, что поведение пациента с нейродегенеративным заболеванием каждую минуту может меняться, как узоры в калейдоскопе.
Первые слова фильма сразу обратили на себя внимание: «Как начинаются сказки?» Соглашусь, данная болезнь самая страшная сказка в мире. Потом автор добавил, что это будет и правда, и вымысел.
Мы видели уютный, прекрасный дом с красивой мебелью. Пожилую даму Хелен в симпатичных костюмах, с бусами и в туфлях на каблучке. С мужем она сидела за столом и «разгадывала» кроссворды. Защемило в груди. Перед моими глазами стали проноситься картины из российских гериатрических центров, пансионатов, частных домов престарелых. Хочется, чтобы старость была такой красивой, как сама Хелена, но это хотение так далеко от реальности большинства российских пожилых людей.
Повествование в фильме шло от имени сына героини. Он художник и решил «испытать свою уязвимость, сделав искусство своей терапией». Его слова о том, что им движет желание выстроить диалог со зрителем, поднял во мне вопрос: «Почему диалог с нами, а не с мамой?» Зритель мог бы стать приглашенным свидетелем, наблюдать, участвовать, каждый по-своему, в своих мыслях, переживаниях, воспоминаниях.
Сын придумал способ поддержать ухудшающуюся память своей матери. Мои клиенты называют ее «погашенной».
Среди большого количества семейных фотографий он выбирал наиболее значимые из событий в жизни матери. О каждой вместе с отцом спрашивал, как по мне, «пытал» маму: «Ты помнишь это платье?» Не зная, что ответить, мама хихикала. «Ты помнишь, кто это? Кто это?» Как будто самое важное — это память и все этим ограничивается. Всегда удивляет, как что-то человек узнает, а какие-то моменты, очень важные, не помнит совсем. Или, наоборот, помнит мелочь, на которую другой никогда бы не обратил внимание. Хелена лучше всего помнила свое свадебное платье, которое сшила сама.
Сын собирал на свалке большие доски, красил их в черный цвет, готовил деревянную раму и белым мелом рисовал изображения по избранным фотографиям. Картины вышли прекрасные!
Параллельно с этим процессом демонстрировалась жизнь семьи. Вот супруг снова и снова тренирует память Хелены, заполняя пустые клетки кроссворда. Правда задачи никак не соответствуют степени ее когнитивных нарушений, жестоко ставят в тупик. Тренировка превращается в настоящее испытание. Профессионалу смотреть это было тяжко.
В следующем кадре в больнице проводят исследование памяти пациентки. Затем Хелену выставляют из кабинета. Она сидит на стульчике в одиночестве в углу коридора. Выглядит потерянной, а доктор говорит супругу, что за последние полтора года состояние памяти его жены сильно ухудшилось.
Далее супруг размышляет: «Наше прошлое осталось в прошлом. Я не могу ничего изменить. Она — любовь всей моей жизни, и мы все еще здесь». Он признается в своей усталости: «Я не измотан, а утомлен. Могу поговорить с Хеленой, но это не полноценное общение». Он находит возможность привезти жену в центр дневного пребывания. Тут впервые мы становимся свидетелями того, что кто-то искренне заинтересован самой Хеленой. Не ее памятью, не ее болезнью, а ею самой — человеком, женщиной, мамой, женой, личностью, Хеленой. Жаль, этот эпизод проскочил мгновенно.
Когда муж привез Хелену в пансионат, в момент открытия входной двери она почему-то сказала, что он не заберет ее отсюда, и заулыбалась. Он убеждал в обратном, чувствуя себя предателем: «Не должен ли я сам заботиться о ней?» Он старался использовать время нахождения без жены в терапевтических целях, для восстановления себя. Уезжал на конюшню, гулял по берегу моря, думая о своей любимой.
Показали отрывок исторической кинохроники о взрыве, свидетелем которого стала Хелена во время прогулки со своими маленькими сыновьями. Все как один зрители решили, что один из сыновей тогда погиб, так как ни разу он не проявился в фильме. Голос за кадром продолжал комментировать: «Она всегда была тревожна, а я был с ней жесток в отстаивании своего взросления. Она заботилась о других. Не уверен, что у нее было время для себя. В том поколении матерей было трудно быть индивидуальностью».
Как склейка сюжетов на фоне мельтешащих снимков и рисунков, постоянно мелькал образ мамы, нарисованный белым карандашом. Схематически, прямыми, грубыми, обрывистыми линиями. Это изображение как будто бы исполняло танец или пыталось вписаться в предлагаемые обстоятельства, но никак не могло. Оно было слишком не похожим на цветное и живое окружение. Несуразное, негибкое, непроявленное, совершенно лишнее по смыслу и внешнему виду. Я записала для себя: мелькает, в поиске себя и своего места, меловая девочка-женщина. Мама как образ вроде бы есть, но в тоже время ее нет. Ей нет места среди альбомных снимков, среди семьи. Являясь главной героиней, ее самой в фильме-то и нет. Никто не остановит, не поймает этот образ, не задержит рядышком с собой.
Сын организовал выставку своих работ. Пятнадцать школьных досок, выкрашенных в черный цвет, были исписаны белым мелком.
Интересная деталь. Перед показом художник разложил их на полу, взобрался высоко на лестницу и смотрел так, свысока. Не на висящие на стене напротив, с возможностью подойти, присмотреться, дотронуться. А свысока. С опасностью падения? Со страхом приближения? С желанием отдаления? С мыслью выйти за рамки, из ситуации и посмотреть на все происходящее со стороны?
На открытии авторской экспозиции в большом зале было много гостей. После красивых слов автор взял мокрую губку и своими руками на глазах своей матери стер самый большой ее портрет. Стер, кивнул головой, отошел в сторону. Гости зааплодировали. На стене осталось висеть огромное полотно, с белыми разводами на черной доске. Уже не черной, а грязно-серой. Мне вспомнились слова его отца: «…мы все еще здесь». Разве?
В рекламе фильма данное действие объяснялось метафорическим сравнением с пулей — смазал мишень, чтобы пуля не попала. Но ведь это ложь. Пуля уже внутри. Она давно попала в цель. Болезнь живет свою жизнь вместо жизни Хелены. Болезнь заполонила все, окрасила существование оттенками страха потери. Уже разорвала в клочья личность Хелены на глазах ее близких.
Позже художник обнял свою маму на фоне уничтоженной картины.
Выставку он разбирал самостоятельно. Все до одной картины были развешены по всему городу в тех местах, с которыми они были связаны. Прибивались на стену дома, в котором Хелена родилась. Оставлялись на берегу моря, где она встретила будущего отца своих детей. Выставлялись в пансионате, куда привозилась на социальную передышку семьи. Крепились к забору.
Рядом с картинами их хозяин оставлял мелки, чтобы любой мог привнести свое видение. Прохожие стирали лица героев, дорисовывали, дописывали, закрашивали, рисовали граффити, заклеивали рекламными объявлениями…
Субтитры озвучивали голос героя: «Создав пятнадцать школьных досок и разместив их в знаковых местах, тех, что важны для нее или для самого изображения, я подчеркиваю радость этих воспоминаний и их ценность. Мел на черной доске для меня точная метафора болезни Альцгеймера. Важно, что это поможет людям задуматься о том, насколько недолговечны наши воспоминания».
За годы практики я вывела свой девиз болезни Альцгеймера: «Теряя память, мы теряем себя». Мне пришлось участвовать в жизни сотен семей. Слышать то, что лучше бы не слышать. Быть свидетелем великолепных и гнусных событий. Но никак не хотелось бы видеть, как сын стирает образ матери, как будто бы саму тяжело болеющую маму, из жизни еще при ее жизни, на ее же глазах. Уничтожает образ сам и позволяет это делать другим. Отдавать на волю природной стихии — говорит ли это о том, что мы снимаем с себя ответственность? Отдать на волю чужих людей — о чем это? Отдать на расправу? Кто-то ведь может надругаться. Кто-то нарисует что-то приятное, кто-то плюнет, кто-то разрубит топором или сожжет. А остатки куда? На свалку? Но ведь мы выбросим не просто изображение. Мы выбросим историю человека. Зачем было создавать? Выносить идею, написать картину — все равно что родить ребенка. В картине ты есть сам. И ты сам выбираешь убить себя.
Одним из самых эмоционально заряженных стал момент в конце фильма. На портрет сыновей Хелены падали капли дождя. Черно-белое изображение превращалось в дырявое полотно. Капли как будто бы съедали мальчиков. Как черви выедают сердцевину яблока, оставляя его гнить изнутри. Глаза детей исчезали постепенно. От этого действа холодела кровь. Невольно всплывала перед глазами военная хроника фашистских концлагерей… Вот почему весь фильм снят в мелькании. Чтобы зритель не успевал оценивать, думать и отслеживать то, что ему предлагают.
Понимаю замысел режиссера. Очевидно, что на глазах от болезни гаснет любимый человек и видеть это невыносимо. Оставаться в этом, принять и смириться еще невыносимее. А впереди еще ужаснее, смерть, горевание, выстраивание жизни без любимого.
Даже не имея деменции или болезни Альцгеймера, оставаться со своей старостью грустно. Моя 86-летняя «ученица», с которой занимаемся когнитивным тренингом, не могла подобрать слово в объяснение своих неудач. «Я не рифмованная. Это значит не собранная». Во время каждой встречи мы, как пазл, собираем ее саму. Через поиск кусочков ее жизни создаем хронику семьи. Как художник заполняет холст мазками, мы новый день окрашиваем воспоминаниями о прошлом. Записываем, зарисовываем, фотографируем. Видя, что память подводит ее, несмотря на все наши огромные усилия, создаем «Книгу воспоминаний», рассказывая о самых важных людях, событиях, переживаниях. Воспоминаниями и фотографическим диалогом мы заполняем пустоту, оживляем душу, картину мира и себя в нем. Глядя глубже, более экзистенциально, мы готовимся к прощанию. Это огромный труд, объединяющий, включающий всю семью и дарящий надежду каждому. Моя «ученица» уйдет в мир иной, но память о ней останется жить не только в сердце ее близких, но и в ее книге памяти. Она останется «после», превратившись в проявленное свидетельство любви. На ее страницах есть такие строки:
Нам всем чего-то не хватает,
А жизнь, как снег, в ладошке тает.
У нас у каждого свой путь.
Мой друг, об этом не забудь.
Однажды мне сказали: «Есть радость от того, что вы есть. Но почему-то это исчезает моментально…» Умрет моя подопечная, но листая ее книгу жизни, книгу ее воспоминаний, я вновь услышу ее голос, прикоснусь к ее руке, а она, как всегда, заглянет в мои глаза.
Фильм продолжался. Сын прибил портрет матери к стене дома.
«Оставим его здесь и посмотрим, что с ним сделают прохожие», — сказал он, обнимая мать за плечи.
Следующим солнечным днем художник и непоименованная женщина в белых футболках стояли около уничтоженного портрета матери и улыбались. Я умышленно повторяю в каждой строке слово «улыбались». Это выглядело по меньшей мере странно.
«Что ты чувствуешь?» — улыбаясь, спросила женщина.
Он вытирал глаза, не мог говорить, улыбался сквозь слезы. Наверное.
«Эммэ-мэммэ», — мычал в ответ, улыбаясь.
«Эмоции зашкаливают?» — продолжала, улыбаясь, говорить за него женщина.
Художник обозначил, что он «предвкушает разрушение картин дождем или людьми и убеждает зрителя в том, что каким бы удручающим ни казался этот процесс, в этом и состоит его неизбежная суть».
Болезнь, конечно, стирает личность. Но она прекрасно справляется с этим и без нашего вмешательства. Сын уточнял, что «мы все носим маски и играем разные роли». Как по мне, уничтожение картин как метафоры самой Хелены, не болезни Альцгеймера, а именно Хелены, стало контрольным выстрелом от руки любящего сына. Возможно, он не мог нащупать, прочувствовать образ матери. Оттого ли она мелькала, нарисованная карандашом, не понимаемая им, невидимая для него? Он говорил, что «в том поколении матерей было трудно быть индивидуальностью». Сейчас, обретя наконец-то свою индивидуальность в картинах, мать и ее эта найденная сыном индивидуальность были уничтожены чужими людьми с разрешения, предложения самого сына. Всей любящей семьи, как говорит нам режиссер.
Сын назвал это действо своей терапией. Была ли это терапия для мамы? А для зрителя? Это про психическое здоровье или про его отсутствие?
Конечно, я сама в каждой статье пишу, что родственники тяжело болеющих людей описывают свою жизнь как «день сурка». Все бремя болезни шквальным ветром обваливается на них. Называю это кромешным адом. Можно ли в нем выжить и жизнь ли это? Освобождение от страданий возможно только смертью. Смертью любимого человека. Но после нее в игру вступит новый персонаж, чувство вины…
Режиссерским акцентом стало разгадывание кроссворда, который и подвел фильм к красивому финалу. Камера снимала супругов со стороны, как будто подглядывая за ними в щелку.
— Мы почти закончили. Глубокое чувство привязанности. Шесть букв. Что ты ко мне чувствуешь?
Хелена, не зная, что ответить, мило улыбалась.
— Начинается на «Л», — не унимался муж.
Хелена снова улыбнулась, хихикнула.
— Какое чувство ты ко мне испытываешь? Как оно называется?
— Любовь.
— Верно. Теперь мы на правильном пути.
Фильм закончился. Моя боль поднялась и осталась. Я смотрела на экран с осознанием того, что за моими плечами стоят сотни семей, с которыми случилась эта трагедия, болезнь Альцгеймера. Самая неизученная, неизлечимая, самая страшная.
Зрители собрались на обсуждение картины. Эксперт, невролог, откровенно сказала свое мнение: «Простите меня, но как по мне, это фашизм!»
В проявленной болезни специалист увидела и возможную причину ее порождения — абьюзивные отношения, созависимость, патологическая терпимость, жертвенность. Возможно, не все в семье было хорошо, что и привело со временем самого неустойчивого психологически человека к слому.
Любовь разная. Она способна как вдохновить и окрылить, так и погрузить в жуткий омут болезни.
«Психологи напали на режиссёра! Эти картины — сублимация тревоги героя и это художественный фильм!» — защищал своего собрата художник-спикер.
Все бы ничего. Но в эмоциональном обсуждении никто из зрителей не решился или не догадался вернуться к описанию события и возразить выступающему. Факт заключается в том, что фильм документальный.
Думаю, говорить на эту тему глубоко и по-настоящему могут, имеют право только те, кто живет в этой болезни! В ней, с ней, для нее, из-за нее. Вопреки ей. Все остальные додумывают и предполагают.
Когда я включила свой телефон, на экране высветилось большое количество неотвеченных звонков. Но привлекло внимание сообщение в 20:30: «Инна. Приехала в пансионат посмотреть, но не могу им дозвониться, чтобы выписали пропуск. На сайте до 21 визит. Решила не откладывать и сразу приехать. Можете ли помочь с проездом?»
Писала та самая клиентка, которая пару часов назад не допускала для себя варианта «предать» свою мать, разместив ее в пансионате для пожилых людей. Если вы умеете слышать голос клиента, умеете читать между строк, вы бы увидели, услышали панический ужас. Он просто вопил и вырывался из каждой буквы. Ей предстоит вернуться домой, который громит, в самом прямом смысле слова, ее болеющая мама. Никто из членов семьи не в состоянии оставаться с ней, сиделки отказываются работать с буйным клиентом. Им не нужны даже деньги. Оставалось тридцать минут на просмотр пансионата, и эти минуты дарили дочери надежду на спасение.
Как никто специалисты понимают агонию своих клиентов. Они растеряны, обессилены, озлобленны. Их жизнь рушится каждую секунду вместе с уничтожением личности их родителей. Противостоять болезни нет сил. От усталости даже памяти о любви не остается. Часто взрослые дети дементных родителей ведут себя более неадекватно, чем сами больные старики. В своей ажитации, несмотря на прочтенный материал, человек не смог допустить мысль о том, что пансионат — это дом. Дом, в котором живут старые и больные люди. Дом, в котором для них созданы безопасные условия и двери которого не могут открыться незнакомцу в любое время без согласования просто от того, что он так захотел. Семья ищет спасения от проявлений болезни, цепляясь за любую соломинку, теряя самих себя в этой заведомо проигрышной лотерее.
Первые пару дней после премьеры внутри себя я продолжала смотреть фильм, вглядываясь в размытые фрагменты жизни Хелены. Потом рассказала свои впечатления о фильме постояльцам пансионата, в котором работаю.
Безусловно, мои «ученицы», «девочки», как мы называем друг друга, не видели первоисточник. Но они те самые болеющие пожилые люди, те самые мамы, чьи сыновья и дочери пытаются помочь им жить в болезнях, пытаются бороться с потерей их памяти.
Мне было важно услышать, как именно они восприняли историю Хелен. У каждой подопечной есть свой диагноз, своя степень когнитивных нарушений.
С.А., 83 года, болезнь Альцгеймера: «Картины — это просто показуха того, что вроде бы все красиво внешне, а внутри семьи размазанные, уничтоженные люди. Элегантность была просто прикрытием грязи. Образ мамы какой? Какие у них были отношения с сыном? Может все было необыкновенно и пристойно внешне, а внутри была пустота?»
К.М., 83 года, смешанная деменция: «Отдал на растерзание».
О.Г., 78 лет, сосудистая деменция: «А может, это шоковая терапия и он надеялся на сдвиг в ее состоянии? Через шок получить проблеск сознания?»
Р.Б., 89 лет, болезнь Альцгеймера: «Вопрос один — зачем уничтожать?»
Ф.Е., 78 лет, сосудистая деменция: «Он знал, что именно так с картинами обойдется. Он был в своем уме. Он был сумасшедший».
А.Ф., 88 лет, лобно-височная деменция: «Сын гордился выставкой, что так проявил свою любовь. Он искал фотографии, вспоминал».
Н.М., 86 лет, болезнь Альцгеймера: «Возможно, он не мог достучаться до мамы? Возможно, входя в комнату, не мог понять, она пустая или в ней кто-то есть? Возможно, она давным-давно умерла для него и от этого он так зло поступил с ее портретами?»
Слушавшая нас сиделка добавила: «Ни разу никто не спросил у самой Хелены: “Что ты хочешь?” Одни вопросы: “Ты помнишь это платье?”, “Ты помнишь это слово?” Она ничего не помнит, не может ответить и только улыбается. Как сумасшедшая. А может она улыбается и думает: “Это вы меня не понимаете…”».
Е.Д., 80 лет, болезнь Альцгеймера: «Ему нужно было пойти в церковь и поговорить с батюшкой. Что бы он ему сказал?»
Здесь я крепко задумалась. Услышать эти слова было важно.
Вместе мы допустили, что автором двигала метафора «все смывается, все уходит, а любовь остается». Смирились с вмешательством природы, но когда на угол дома прибили портрет матери с ее ребенком и любой желающий может делать что хочет, есть ли в этом любовь? Возможно, внутри самого героя и бушуют противоречия в желании как можно быстрее смыть, освободить себя от ненужного, старого рисунка и принимать мать такой, какая она есть? Возможно, в уничтожении картин он пытался для себя свершить акт принятия болезни и скорой смерти матери?
Признаюсь, я не хотела бы, чтобы мои родители или подопечные посмотрели этот фильм. Будет больно за них. Теряя себя, человек становится полностью зависимым от того, кто окажется рядом. Именно эти люди решают, будет ли он жить или доживать? Как жить? Моя подопечная, которой очень не повезло столкнуться с тотальным одиночеством, приведшим к болезни Альцгеймера, сказала: «Я не плачу. Злюсь, потому что никому не нужна… Я хочу домой…» Те, кто рядом, или создадут для нее дом, или погубят даже воспоминания о нем.
Было бы очень страшно видеть, как мой любимый сын стирает мой портрет. Не дай Бог. Можно возразить, что сама Хелена уже не понимала происходящего. Но кто знает, что на самом деле происходит внутри не столько умирающего мозга, сколько в душе человека?!
Вспомнилась практика, помогающая быстро увидеть последствия любого действия. Порвать изображение на мелкие части, а потом склеить все обратно. Идеальной картинки не выйдет. Места склейки как шрамы. Как ни старайся, их видно. Как ни замазывай, поверхность будет не гладкой. Да и сам ты будешь знать, что пытался склеить порванное. Шрамы — это наши встречи с собой, людьми, обстоятельствами, миром.
Своих собеседниц я попросила доснимать кино.
В один голос сразу же они предложили оставить картины в семье, как подарок. Ведь будут внуки, они могут посмотреть на свою бабушку глазами своего отца. Познакомятся с ней через выражение его любви, через его память о ней.
Может быть, картины будут будить воспоминания у мамы, оживлять ее погашенную память. Предложили, чтобы сын попросил маму что-нибудь написать, а если она уже не может, взял бы ее руку в свою и вместе бы написали. Работа в детском хосписе подарила понятие «рука в руке». Так можно. Так нужно.
Предложили продать картины на аукционе тому, кто ценит искусство. Раздать картины близким и друзьям. Разместить, если не дома, в местном музее, пансионате, который посещает Хелена и скорее всего там и будет доживать свои дни. В наших московских хосписах есть негласная традиция: если в его стенах умирает художник, семья в дар приносит его картину. Через нее живет память о близком человеке. В этом последнем месте, где произошла встреча со смертью, последняя встреча и последнее расставание, художник продолжает жить. Картина — свидетельство жизни ее автора. Картина — любовь, признательность, уважение. Это память.
Снова возвращаюсь к словам подопечной: «Дверь закрывается, если ее закрыть». Лично для меня сын-художник, уничтожив картины, закрыл дверь к любви и здравомыслию навсегда. Но и здесь я его понимаю, ибо данное действо есть свидетельство результата заболевания. Омут болезни Альцгеймера поглотил маму героя, медленно затягивает и его самого.
Вопрос в том, сюжет фильма вымысел или правда? Простите меня, но предложенная вот так «сублимация тревоги героя», распространяющаяся по миру под благовидным предлогом, приносящая призы кинофестивалей, снова напоминает концентрационный лагерь.
В зале во время обсуждения фильма присутствовали люди молодого поколения. В своем большинстве они защищали художника от «нападок психологов» и видели глубокий смысл в такой работе с воспоминаниями. С позиции вечности это красиво, но почему-то потерялся сам герой. Никто из молодежи никогда не видел страдающего от болезни Альцгеймера человека, не говорил с его близкими.
Слушая их высказывания, я все-таки испытала облегчение. Слова сына, главного героя: «Мне так о многом хотелось бы с ней поговорить …но этого не случилось…» — вдруг прозвучали надеждой. Надеждой на то, что люди повернутся друг к другу лицом и в ситуации особой невыносимости не бросят друг друга, не устроят чистилище, не сотрут из памяти, а протянут руку, обнимут, останутся рядом столько, сколько будет необходимо. Помогут чувствовать себя живым человеком, а не искусным мазком на полотне. Главным лекарством для «погашенной памяти» всегда было и остается общение, принятие и любовь.
Долго я не могла заставить себя выплеснуть боль и написать о своей встрече с этим фильмом. Вернее, писала, но только в своей голове, глядя на клиентов. Много эмоций, еще больше метафор, ассоциаций, разных представлений и опыта. Но сейчас пришло сообщение от дочери подопечной нашего пансионата: «Сегодня мама ушла от нас навсегда. Спасибо вам всем! Вы столько лет ее поддерживали, берегли и продлевали маме жизнь! От меня — низкий поклон! Только благодаря вам мама и жила. Спасибо большое!»
Именно наши пациенты делают нас теми, кто мы есть. Не мы помогаем им. Они приходят в нашу жизнь для научения любить.
Пишу эти строки в память о каждом ушедшем подопечном. В знак искренней признательности их семьям за доверие. В знак уважения к их боли и страданию. В знак восхищения тем, как они встречают все испытания болью, страхом, обреченностью, смертью. Мы проживали жизнь в обстоятельствах их мучительной болезни. Как могли, но неизменно с осознанием того, что не просто так оказались рядом здесь и сейчас.
21 января 2025 этого года состоялся такой диалог с одинокой, тяжело больной женщиной. Я напоминала ей, зачем мы встречаемся, где мы, кто я, кто она. Она отвечала:
— Я не помню ничего.
— А я вам напоминаю.
— Значит, вам это для чего-то нужно…
Эти строки — знак благодарности Хелене, участнице документального фильма «Не забывай помнить». Мне было нужно познакомиться с ней, чтобы в очередной раз осознать ценность того, что у меня есть.














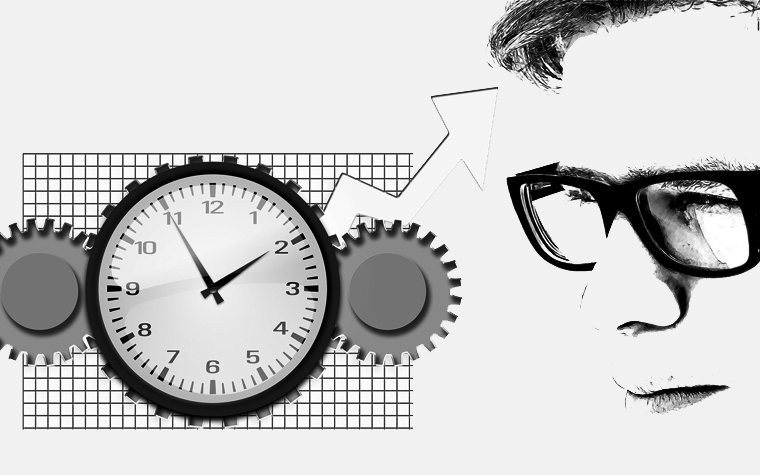










































Очень глубокая и человечная статья, за подопечных Инны Сергеевны можно только порадоваться.
Людмила Владимировна, спасибо. Одним из самых страшных страхов родственников болеющих людей, становится мысль "боюсь, стать таким же..." Глядя на испытания болезнью, данная мысль рождается и у персонала и специалистов. Жаль, что в ВУЗах не обучают методам проникновенного чувствования состояния пациента.
, чтобы комментировать
Добрый день. Инна Сергеевна, с середины статьи мне захотелось броситься писать Вам комментарий. Спасибо огромное за такое тёплое, красноречивое описание просмотренного фильма, которое позволило мне словно самой присутствовать на показе. Я сама вот уже семь лет ухаживаю за родными мне людьми, уходящими друг за другом. Сначала свекровь от онкологического заболеаания, я провела с ней полтора месяца в больнице, а потом три раза в неделю (остальные дни взяли дочери мои) приезжала к ней домой после работы. Потом папа, которого я лечила много лет, сопровождала его по всем врачам, в июне мне мне сказали, что он будет жить, а в октябре он скоропостижно умер. Теперь мама, у которой одно лёгкое и неконтролируемая бронхиальная астма. Как часто у меня опускались руки и хотелось замереть. Но ваша статья как глоток свежего воздуха, как права на бессилие порой, как надежда на счастливое завтра. Низкий Вам поклон за Вашу чуткость, наполненность, самоотверженность и за потрясающий Ваш рассказ!!!!
Елена Васильевна! Добрый вечер!Спасибо за Ваш отклик и теплые слова. Простите, что мои переживания заставили и Вас вернуться к сложным воспоминаниям. Но, знаете, так ценно читать о любви и уважении детей к своим родителям, о том, что Вы не одна остались в трудные минуты, а Ваши дети стали поддержкой. Да, несомненно, в борьбе с жизненными вызовами мы теряем силы, кто-то веру, кто-то самого себя. Но меня лично всегда удивляли, вдохновляли и восхищали слова родственников моих клиентов:
"-Я сбрасываю, от бессилия, все свои «одёжки»…
- Не остается сил входить в какой-то образ…
- Моё сознание очищается…
- Я очищаюсь… Остаюсь собой…
- Странно, но вырастает уверенность в себе…
- Я задаюсь вопросами, которые меня раньше не волновали…"
Болезни близких для кого-то из нас становятся или испытанием или уроком или бесценным шансом, когда Можно Успеть дослушать, договорить, добыть, доцеловать, дообнимать, долюбить.
И да! Мы имеем право в столкновении с невыносимостью быть слабыми, опускать руки, плакать. Проявления себя, позволение на это, дает маленькую передышку нашей психике, чтобы завтра мы могли снова улыбнуться тем, кто в нас нуждается.
Берегите себя и обнимите своих любимых маму и дочерей!)
Доброе утро. В моей жизни ничего не происходит случайно! И не случайно из всех статей я прочла именно Вашу. Да во мне Ваше, Инна Сергеевна, описание впечатления от просмотра фильма очень откликнулось, но оно не вызвало неприятных воспоминаний и ощущений, напротив мне многое открылось в другом свете. Я часто злилась на своего ушедшего папу, теперь болеющую маму, но Ваша статья и слова Ваших пациентов помогли мне понять их страхи и переживания. Мне не стыдно за мои чувство, я живой человек и жить в болезни близких 7 лет не просто. Но Вы придали мне сил. Я по профессии психолог, многие мои коллеги считают, что мне пора обратиться за помощью, что сама я уже не вывожу. Моя мама очень мнительный человек неумеющий справляться с трудностями и её перепады настроения, злоба, апатия меня очень раскачивают эмоционально, я присоединилась настолько, что стала отражать её настроение и состояние. Но я работаю над собой. А Вам, Инна Сергеевна, огромное спасибо за статью, за ответ, для меня это оооочень ценно!!!!
Елена Васильевна! Добрый день! Читаю Вас и вдруг вспомнила недавнюю историю.
Я провожу групповой тренинг с подопечными пансионата, для тренировки их когнитивных функций. Скажу честно, это работа собой. Если не улыбаться, не «тянуть» своей энергией, результата не будет.
В тот день погода стояла ужасная, плохое самочувствие было не только у постояльцев. Старания к большей активности пробуждали трех из пятнадцати «учениц». Понимая обреченность ситуации, оставалось только со смехом начать диалог:
-Все, не могу бороться с Вами. Надо менять работу.
-А мы что без тебя будем делать?
-Мой психотерапевт рекомендовал недавно: «Меняй, Инна работу. Твои пенсионеры тебя съедят».
Как думаете, что было сказано мне в ответ со стороны самих пенсионеров?))
-Нет, не съедим. Мы сытые))
Все в один голос засмеялись, и работа сдвинулась с мертвой точки.
В этом жизненном анекдоте про стариков, скрыто много всего. Остается найти то, что нас самих насыщает чем-то светлым, красивым и радостным.
Спасибо за наше общение- это тоже терапия!
Инна Сергеевна, скажу Вам от всей души, мне бы очень хотелось продолжать и продолжать с Вами диалог, но наверное это не очень прилично. Скажу только, что когда я практически проживала в больнице со свекровью, меня иногда сменяла сиделка, а иногда дочери, то мне тоже все говорили, что люди с тяжёлыми заболеваниями выкачивают из меня энергию. И скажу Вам честно, когда я приезжала из больницы домой я действительно чувствовала бессилие, но придя в себя возвращалась в больницу, всем улыбалась, как Вы и говорите. Я окружаю себя приятными, наполняюшими меня людьми, вещами, событиями. Поддержки я получаю много, и я очень благодарна всем, кто мне её оказывает, да и сама всегда готова выслушать и поддержать. Спасибо Вам огромное за возможность поговорить с Вами на такую близкую нам обеим тему, я очень очень рада нашему психотерапеатическому сеансу!!!!
Спасибо за встречу. Хорошего вечера!
, чтобы комментировать