
«Психологическая газета» продолжает публиковать материалы-пособие проф. Марка Евгеньевича Бурно, предназначенное для врачей и клинических (медицинских) психологов для работы в Терапии творческим самовыражением М. Бурно (ТТСБ) с тревожно-депрессивными пациентами. В первой статье цикла было представлено предисловие к пособию и первое занятие, а также список литературы. Второе занятие посвящено краткому повторению существа ТТСБ и классическому учению о характерах. Третье занятие было посвящено терапии творческим общением с природой людей с синтонным (сангвиническим) характером. Четвертое занятие — терапии людей с замкнуто-углублённым (аутистическим, шизоидным) характером.
Картины для занятий подобраны врачом-психотерапевтом Аллой Алексеевной Бурно.
Пятое занятие. О терапии творческим общением с природой людей с тревожно-сомневающимся (психастеническим) и застенчиво-раздражительным (астеническим) характерами
Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844)
***
Глупцы не чужды вдохновенья;
Им так же пылкие мгновенья
Оно, как гениям, дарит:
Слетая с неба, все растенья
Равно весна животворит.
Что ж это сходство знаменует?
Что им глупец приобретёт?
Его капустою раздует,
А лавром он не расцветёт.
1828
***
О мысль! Тебе удел цветка:
Он свежий манит мотылька,
Прельщает пчёлку золотую,
К нему с любовью мошка льнёт
И стрекоза его поёт;
Утратил прелесть молодую
И чередой своей поблёк —
Где пчёлка, мошка, мотылёк?
Забыт он роем их летучим,
И никому в нём нужды нет;
А тут зерном своим падучим
Он зарождает новый цвет.
1832
***
Весна, Весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несёт
На торжествующем хребте
Поднятый ею лёд!
Ещё древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поёт
Заздравный гимн весне.
Что с нею, что с моей душой?
С ручьём она ручей
И с птичкой птичка! С ним журчит,
Летает в небе с ней!
Зачем так радует её
И солнце и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она?
Что нужды! Счастлив, кто на нём
Забвенье мысли пьёт,
Кого далёко от неё
Он, дивный, унесёт!
1834
Молитва
Царь небес! Успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий твой рай
Силу сердцу подай.
1842 или 1843
(Стихотворение, не печатавшееся при жизни).
Из письма Е.А. Баратынского Николаю Васильевичу Путяте (1802–1877): «Вы знаете, что Италия не богата деревьями, но где они есть, там они чудно прекрасны. Как наши северные леса, в своей романтической красоте, в своих задумчивых зыбях выражают все оттенки меланхолии, так ярко-зелёный, резко отделяющийся лист здешних деревьев живописует все степени счастья» (см.: Баратынский Е.А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников / Сост. С Г Бочарова. М.: Правда, 1987. С. 321).
Н.В. Путята — офицер, впоследствии чиновник в Финляндии. Публикации по русской истории. (См. : Большая энциклопедия. СПб: Просвещение, СПб, 1909. Т. 16. С. 15). См. также его «Примечания к письмам Е.А. Баратынского к Н.В. Путяте» (с. 351–355). Там рассказано, что «на новом кладбище Александро-Невского монастыря» в Петербурге» на памятнике, воздвигнутом его (Е.А. Баратынского — М.Б.) вдовою, изображены в медальоне черты его с следующею надписью из его стихотворения «Отрывок» (с. 354):
В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.
Уточню, что в этом большом стихотворении молодые влюблённые Он и Она среди чудесной природы говорят о смерти. Он напоминает, что «всё ж умрём мы наконец». Она успокаивает его своей верой в то, что «есть бытие и за могилой», «там нам не будет разлученья». Он не способен в это веровать, Он всё размышляет. И тогда Она говорит ему:
Премудрость высшего Творца
Не нам исследовать и мерить;
В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.
Пойдём; грустна я в самом деле,
И от мятежных слов твоих,
Я признаюсь, во мне доселе
Сердечный трепет не затих.
1829?
Антон Павлович Чехов (1860–1904)
Выписки из чеховских вещей для участников занятия.
Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чём-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз удивлённо пятился назад и делал вид, что восхищается своею речью… Послушав его и ответив ему: «рррр», Каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояло маленькое корытце, в котором она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох — невкусно, попробовала корки — и стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а, напротив, заговорил ещё горячее и, чтобы показать своё доверие, сам подошёл к корытцу и съел несколько горошинок.
«Каштанка» (1887)
В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь всё ещё прекрасна и полна жизни. Едва зайдёт солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, всё прощено, и степь легко вздыхает широкой грудью. Как будто от того, что траве не видно в потёмках своей старости, в ней поднимается весёлая молодая трескотня, какой не бывает днём; треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты — всё мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить.
«Степь» (1888)
Чьи-то года считала кукушка, и всё сбивалась со счёта, и опять начинала. В пруде сердито, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: «И ты такова! И ты такова!» Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь даётся только один раз!
«В овраге» (1899)
В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда ещё тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства.
«Дама с собачкой» (1899)
Художники
Клод Моне (1840–1926)

Клод Моне. Осень на Сене в Аржантёе. 1873.
Альфред Сислей (1839–1899)
Иван Крамской (1837–1887)

Иван Крамской. Дети в лесу. 1887.
Пример заключения ведущего занятие
Существо психастенического характера в изначально тревожной неестественности (деперсонализационности), своеобразной блёклости-бедности чувственности, мягкой пастельности чувствования (слабость «животной половины») при склонности к одухотворённо-материалистическому мироощущению с засильем сомневающегося размышления (второсигнальность). Тревожная неестественность, неотчётливость чувствования, сказывающаяся в тревожных сомнениях, сплетающихся в самоанализ. Это — невольная попытка навести мыслью порядок в помощь вяловатому (не обострённому) чувствованию с желанием его импрессионистически оживлять. Нет чувственной чёткости, невольная тревожная склонность к порядку в понимании происходящего вокруг и с самим психастеником. Склонность к порядку при порождённой истощаемостью и вялостью беспорядочности. Самоанализ с тревожным переживанием своей неполноценности, несостоятельности, непрактичности, средних способностей в школе, в простых для множества людей технических делах, в спортивных занятиях, в обычной жизни вообще. Нет часто, по-рассеянности, живого чувства людей — кому можно верить, кому — нет. Надо мыслью разложить всё по полочкам, но таким образом и многому можно научиться. Бывает, существует и врождённая способность настораживаться в помощь обобщению (например, в отношении нравственности какого-то человека: э-э-э, что-то тут не так). Тревожная неуверенность в своих силах, в своей ценности, жалостливость к тем, кому ещё хуже, чувство вины перед ними. Всё это побуждает спрятаться со своей застенчивостью, скованностью в скромном углу жизни, но там безжалостно ранит самолюбие. Выход из положения — стихийно (или с чьей-то помощью) найти, хотя бы на досуге, своё творческое, освещающее душу дело. Например, содержательная творческая помощь несчастным, смягчающая свою жалостливость к ним. Какое-то уединённое дело с надеждой на то, что оно поможет людям. Готовность довольствоваться и малым, но по-своему «святым» для него. В этом часто смысл психастенической, астенической жизни.
Важно сделать пояснение по поводу душевной «блёклости» (душевного онемения), «эмоциональной» сухости, «деревянности чувств» психастеника. Об этом нередко говорят и пишут с некоторым даже укором психастеническому характеру. Переживает за других-де лишь внешне, а внутри «эмоциональный сухарь». Психастеник (и многие психастеноподобные люди) в самом деле, мы знаем, защищён по временам от живого переживания за себя и за близких включающейся спасительной деперсонализационной психологической защитой. То есть он не чувствует себя в это время эмоциональным самим собою. Испытывает душевную анестезию, головою всё довольно подробно понимая. Внешне же — мягкая лёгкая ступорозность, как у доктора Кириллова после смерти сына, мальчика, из чеховского рассказа «Враги». Но дело в том, что эта деперсонализационная защита, со временем или быстро, истощается, даёт прореху. И через эту деперсонализационную прореху выливается незащищённое острое переживание, например, страдание за несчастных людей, животных. Не было бы этого — не было бы великой чеховской прозы, вообще великой русской психологической прозы о страдающих людях, начиная с гоголевской «Шинели». Конечно, писатель пишет не в пору острого страдания, а тогда, когда спасительная защита, в известной мере, возвращается. Но остаётся след страдания — для работы.
О связи душевной блёклости, тускловатости с мягкой повседневной характерологической психастенической деперсонализационностью тонко рассказывает психиатр-психотерапевт нашей школы Людмила Васильевна Махновская (Москва) (1999). «В основе этого явления (психастенической деперсонализационности — М.Б.) лежит неяркая, блёклая чувственность как конституциональная особенность психастеника. Таким людям в жизни трудно опираться на свои неотчётливые, неясные чувства, и потому они склонны подробно, детально анализировать даже самые обыкновенные явления, события, особенно — связанные с общением. Неуверенность в собственных чувствах неизбежно приводит к постоянным тревожным сомнениям в оценке себя и окружающих его» [19, с. 422]. Сравнивая психастеническую деперсонализацию с деперсонализациями иной природы, Людмила Васильевна отмечает следующие особенности деперсонализации психастеников. «Ощущение собственной эмоциональной неестественности усиливается при трудной, неблагоприятной (для психастеника — М.Б.) ситуации. … Чаще это общение с малознакомыми людьми, … необходимость выбора, переутомление, астения после простуды и т.п. И само содержание деперсонализационных переживаний чётко соответствует данной ситуации» [19, с. 426].
В стихотворении психастенического Баратынского («Весна, Весна! Как воздух чист!»), по-моему, описывается весеннее мягкое деперсонализационное состояние поэта с чувством ускользания своего эмоционального «Я». «Что с нею, что с моей душой? / С ручьём она ручей / И с птичкой птичка! С ним журчит, / Летает в небе с ней! / Зачем так радует её / И солнце и весна! / Ликует ли, как дочь стихий, / На пире их она?»
«Ликует ли?» — спрашивает поэт себя о своей душе. Ликовать — это восторженно радоваться всей душой. И отвечает следующей строфой. «Что нужды! Счастлив, кто на нём (пире — М.Б.) / Забвенье мысли пьёт, / Кого далёко от неё / Он, дивный, унесёт!»
Выходит, нет. Не способен он восторженно радоваться, всей душой (ликовать). Не способна его душа («дочь стихий») всецело ликовать на пире стихий, на пире солнца и весны. Не способна, потому что мысль его не отпускает, мысль свою не забудешь во время этого пира. Душа сольётся с ручьём, птичкой, но дивный весенний пир не унесёт его далёко от его собственного размышления, от его мысли. Поэт как бы уточняет нам, что деперсонализация, свойственная его душе, есть ускользание эмоционального «Я», но не мыслительного.
Л.В. Махновская (1999) поясняет, что полифоническая, эндогенно-процессуальная деперсонализация может лишь провоцироваться какими-либо внешними обстоятельствами, но затем «развивается по своим внутренним механизмам». Да и сами эти внешние обстоятельства обычно довольно случайны. Деперсонализация здесь глубже, интенсивнее психастенической. Здесь «речь идёт об «эмоциональной дезориентации, об ощущении сосуществования в собственной личности двух или нескольких «Я» (с ясным осознанием субъективности этого переживания) или об ощущении полнейшего бесчувствия, утраты собственного «Я», когда больной говорит: «Меня как будто и нет», «Я как будто уже и не живу». Эта деперсонализация «может сопровождаться мучительной душевной болью, суицидальными переживаниями, ощущением потери жизненного смысла». И далее. «Хочется заметить, что данное расстройство, в большинстве случаев резистентное к лекарствам, требует кропотливой, глубокой психотерапевтической помощи, в которой ведущую роль играют приёмы терапии творчеством, помогающие больному целостно, отчётливо почувствовать свою индивидуальность» [19, с. 426-427]. Так было у инженера А.С. Соколова (первое занятие).
Светлана Владимировна Некрасова (Москва) (1998), психиатр-психотерапевт, тоже (как и Л.В. Махновская) мой аспирант в прошлом, рассказывает годом раньше, что больным малопрогредиентной шизофренией с основным, ведущим деперсонализационным расстройством «в состоянии болезненного бесчувствия трудно заниматься творчеством». «Напряжение восприятия, мысли, памяти, эмоций вызывает ещё большее страдание. Поэтому в таком состоянии нужно советовать больному заняться каким-либо формальным, механическим делом. В периоды же относительно хорошего самочувствия — учиться замечать свои эмоциональные впечатления, как положительные, так и отрицательные, в обычной жизни, чтобы убеждаться в сохранной способности чувствовать, сопереживать. Моменты, связанные со сказочно ярким, остроэмоциональным восприятием, можно фотографировать, описывать, чтобы возвращаться к ним при ухудшении состояния. Для деперсонализационного больного в равной степени лечебны как переживания своей естественности, так и радующей душу гиперчувствительности». Если для пациента ТТС (ТТСБ) «становится сутью вещей, новым смыслом, касающимся всей жизни, то эффективность может быть высокой (вплоть до полной ремиссии). В результате такой пациент стремится помочь другим (даже в группе) такими же лечебными способами» [19, с. 307]. Опытом своей психотерапевтической жизни с этим всецело согласен.
Прошу простить за это отступление от работы с психастеническими пациентами. Это всё важно для сравнения с трудными пациентами с деперсонализацией на полифонической характерологической почве.
Астеник отличается от психастеника большей силой-живостью своей «животной половины» и, значит, более острой, подробной чувственностью, «художественностью», практичностью без способности сложно анализировать. Тревожные сомнения заслоняются тревожной мнительностью, в которой больше чувства, чем мысли. Тревожного повседневного ожидания беды, однако, не меньше. Тут слабее неуверенность в своих чувствах (деперсонализационность). Астеник вообще более живёт чувством, нежели размышлением. Среди творческих астеников поэтому больше глубоких живописцев, чем писателей (например, Крамской). Обычно тут больше подробного человечного реализма, меньше, в отличие от психастенического художника, стремления ярко импрессионистически оживлять себя в творчестве (как это делали Клод Моне, Сислей). Психиатр-психотерапевт Ольга Борисовна Счастливова (Москва) рассказывает по этому поводу следующее. «… психастеник часто тянется к ярким земным, радующим краскам природы, чтобы оживить, растормошить себя, смягчить тревожность. Например, Клод Моне … в своём саду … всем остальным цветам предпочитал ирисы, …. составлял цветочные композиции. Видимо, буйство красок живых цветов вдохновляло художника на создание живописных полотен [19, с. 596]. Но остаётся общая для психастено-астенического круга борьба чувства неполноценности (застенчивость, неуверенность, нерешительность и т.п.) с внутренним ранимым самолюбием-честолюбием, тоже общая доброта, жалостливость к тем, кому плохо (в том числе, к несчастным животным).
Чувство (переживание) неполноценности важно отличать (дабы не запутаться) от известного понятия «рессентимент» (Ницше, Э. Кречмер). Это другое. Рессентимент — озлобленность (с франц.), враждебность неудачника к «врагу» своих неудач. Это «сверлящая» (Э. Кречмер) зависть слабого к сильному, порождающая не только порою высокие добрые поступки слабого, но и злые, агрессивные (Кречмер Э. Медицинская психология, 1927, с. 228–229). Это озлобление более свойственно малонравственным людям с природной авторитарностью. «Переживание неполноценности» как проявление истинной дефензивности, обычно не содержит желания агрессии. Даже напряжено известным чувством вины не только перед тем, кому ещё хуже, но и нередко перед собою за свою зависть к тому, кому лучше. По обстоятельствам, это переживание разрастается в нравственно-этические страдания. Впрочем, и истинная дефензивность, случается, терпелива, покорна лишь до поры до времени.
О психастеническом Баратынском. «Согласно с почтеннейшим Н.В. Путятой, могу удостоверить, что самой задушевной идеей Баратынского было — освобождение помещичьих крестьян» (Кичеев Пётр Григорьевич, адвокат, литератор (Баратынский Е.А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников…, с. 380, 464)).
Астеник чаще раздражительнее психастеника. Впрочем, они вместе по-чеховски нередко со всеми замучились и с собой замучились. Эти люди служат обычно не Богу, они его обычно не чувствуют. Служат живому, особенно страдающему, человеку и в известном смысле лечат себя помощью другому.
Влечения (пищевое и сексуальное) здесь нередко напряжены, но этот голод утоляется без «художественного», «физического» чувственного наслаждения-блаженства сангвиников, без подробно-ярких и продолжительных чувственных радостей жизни. Картина чувственного наслаждения (пищевого и любовного) быстро забывается, мало потом вспоминается, в отличие от подробностей духовных любовных переживаний.
Баратынский в поэме «Пиры» (1820, 1832) наблюдает, как «сияют лакомые блюды», как «широкие бокалы» «веселье в сердце льют», как «в застольном деле все удалы», и печально сознаёт, что не способен этому сочувствовать. «Зачем удел мой слабый дар!»
Психастеник, астеник, как и некоторые психастеноподобные аутисты, скучая по общению с людьми, могут быть среди близких им людей, с чувством открывшейся свободы в душе, — даже очень общительными, деятельными (замкнутость наизнанку), но при этом всегда стараются быть внутренне собою, не поддаваясь внушению, не растворяясь душевно в людях. Они порою и скажут «что-то не своё», чтобы не обидеть собеседника, но внутренне иронически поглядывая при этом на себя сбоку.
Конечно же, есть среди психастеников и астеников и безнравственные натуры — с иной душевной (психологической) защитой от своих тревог. Они безнравственны своей особенной «перестраховочной» безнравственностью, например, чеховского «человека в футляре». Но безнравственных в тяжёлом растаптывающим личность понимании (рядом с восхищением красотой птиц и насекомых), здесь сравнительно мало, а без особой вины мучающихся совестью — много. Близкие психастеника и астеника особенно часто жалуются на их «мелочную» тревожность и раздражительность в общении. Истощающейся раздражительностью смягчается напряжённость, а тревожными проверками рассеянность. Но, конечно же, близким достаётся. И приходится настойчиво призывать пациента, по возможности, дабы не сломать себе же жизнь, сдерживаться, хотя это и трудно. Близким же пациента важно, по обстоятельствам, пояснить, что раздражительность, мелочная тревожность сами по себе ещё не есть какая-то агрессивная безнравственность. Безнравственность сказывается в равнодушии человека к тому, какие раны наносит он близкому своим подобным поведением. В нежелании это понимать. А тут ведь, успокоившись, человек сам мучается, что делает плохое и близкому, и даже кошке.
Если существует дефензивность (природное переживание своей неполноценности, склонность к жалостливости, совестливости), то дефензивным людям сравнительно труднее творить агрессию-зло (при всяком воспитании) [5, сс. 381–388].
Психастеники практически не способны не думать о том, о чём не хочется думать, верить в то хорошее для них, во что хочется верить, по-детски обманывать себя в своей невиновности и т.п. Западная психотерапия в духе «здесь и сейчас» не для них: в невольном сравнении настоящего с прошлым и будущим лишь разжигается самообвинение.
Неуловимо прекрасное в природе, человеке психастеники воспринимают с грустью, потому что это со временем завянет или мало кто оценит (чеховская «Степь», рассказ «Красавицы», цветок в стихотворении Баратынского). Радость мгновения не существует для психастеника в отличие от тоже тревожного сангвиника. В своей тревожности, даже в детстве, психастеник нередко грустно размышляет, чему же радоваться, если все умрём.
Пушкин в очерке «Баратынский» писал: «Он у нас оригинален — ибо мыслит», «мыслит по-своему», а «чувствует сильно и глубоко».
Белинский как литературный критик-клиницист размышляет в середине 19-го века, что Баратынский, «несмотря на его вражду к мысли» (понимаю это как «вражду» к своим психастеническим сомнениям — М.Б.), … по натуре своей, призван быть поэтом мысли». Т.к. «борется с мыслью тот, кто не может овладеть ею, стремясь к ней всеми силами души своей». Поначалу Белинский считает, что эта «борьба с мыслью» помешала создать поэту хотя бы «одно из тех творений, которые …. надолго переживают своих творцов». Но в конце этой статьи Белинский полагает, что бессмертные поэты отличаются «диалектически развивающейся живой идеей, лежащей в основании их творчества и составляющей его пафос». Убеждение, что для великого, бессмертного поэта «довольно чувства» — ложно; «теперь все поэты, даже великие, должны быть вместе и мыслителями, иначе не поможет и талант». «Наука, живая современная наука, сделалась теперь пестуном искусства, и без неё — немощно вдохновение, бессилен талант!..» (Белинский В.Г. «Стихотворения Баратынского» (1842)).
В работе «Русская литература в 1844 году» (1845) Белинский (думается, чувствуя своё характерологическое родство с Баратынским), пишет о бессмертии Баратынского ещё благодарнее, в сущности, поклоняясь ему. «Призвание Баратынского было на рубеже двух сфер: он мыслил стихами, если можно так выразиться, не будучи собственно ни поэтом в смысле художника, ни сухим мыслителем. … Дума всегда преобладала в них (его стихотворениях — М.Б.) над непосредственностью творчества. … эта дума всегда так тепла, так задушевна… она обращается к голове читателя, но доходит до неё через его сердце. В думе Баратынского много страдательного… Она — всегда вопрос, на который поэт отвечает только скорбию… этот человек, сильно чувствуя, много думал, следовательно, жил, как не всем дано жить, но только избранным. … Вообще поэзия Баратынского — не нашего времени; но мыслящий человек всегда перечтёт с удовольствием стихотворения Баратынского, потому что всегда найдёт в них человека — предмет вечно интересный для человека».
Баратынский поэтически не слабее и не сильнее Пушкина. Он такой, какой есть по психастенической природе своей. В нём больше тревожно-сложной, аналитически-сомневающейся поэтической мысли, а в синтонном Пушкине больше полнокровно-сложного поэтического чувства, синтонной, сангвинической мудрости. «Мой дар убог и голос мой не громок», — начинает Баратынский известное своё стихотворение. Другое стихотворение («А.С. Пушкину») начинает так: «Поверь, мой милый! твой поэт / Тебе соперник не опасный!» А по-моему, тут невозможно говорить о соперничестве. Одним людям близок Пушкин, а другим, более тревожно-размышляющим (их много в России), гораздо ближе, роднее Баратынский. Потому что глубже, точнее помогает искать психастеническому, психастеноподобному человеку свой смысл существования, своё отношение к природе, к религии, отталкиваясь от сходной с Баратынским своей психастенической природы, своей изначальной природной душевной, духовной направленности.
Сомневающаяся добрая мысль Баратынского — это не аутистический лермонтовский изначально демонический дух сомнения. Это сомневающееся земное психастеническое размышление-переживание.
Вспоминаю тут больше Баратынского и меньше Чехова, потому что о психастеничности Чехова много рассказывал. Рассказывал и о неспособности Чехова по природе своей поверить в изначальный Дух, правящий миром, почувствовать Его. Это при глубоком уважении Чехова к религии Добра, её необходимости для людей (например, в рассказах «Архиерей», «Студент»). При собственном желании веровать и призывать людей веровать. См.: 3, с. 348–415; 7, с. 525–531, 541–555; 19, с.106–159.
Подобное отношение к религии было и у Баратынского. Баратынский, как известно, не одобрял немецкую «трансцендентальную философию», увлечение ею в России (письмо А.С Пушкину (5–20 января 1826)). Даже синтонный, трезво реалистический Пушкин полагал, что эта философия «спасла нашу молодёжь от холодного скептицизма французской философии» (цитирую из книги: Кондаков И.М. Психология в зеркале пушкинской судьбы. М.: ЭКО, 2000, с. 21). Баратынский же считал себя «Недоноском» (см. стихотворение «Недоносок», 1835), который хочет подняться в своём чувствовании мира до небес, но не может. Как «крылатый вздох» носится он «меж землёй и небесами». «В тягость роскошь мне твоя, / О бессмысленная вечность!». И этого своего детёныша (слово, заменяющее «недоносок» в Словаре Ожегова и Шведовой) на земле «оживляет». «Мир я вижу, как во мгле; Арф небесных отголосок / слабо слышу… На земле / Оживил я недоносок».
Синтонному Пушкину легче, хотя бы на время, поверить в Бога, нежели психастенику. Вообще обмануть себя, как он сам в этом сознавался («обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад»). Так и было перед смертью после дуэли, благодаря уговариваниям Жуковского.
Обычно, при душевном стремлении психастеника веровать в Бога, в изначальный Дух, правящий миром, он не может справиться со своей «неверующей» природой и, размышляя философски, приходит к агностицизму, как психастенический Дарвин. Дарвин считал себя «агностиком» до конца жизни («Тайна начала всех вещей неразрешима для нас…» — это его слова) (см.: Бурно М.Е., Калмыкова И.Ю. Практикум по Терапии творческим самовыражением (М.Е. Бурно). М.: Институт консультирования и системных решений. Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, 2018, с. 189).
Средняя (или даже) плохая память огорчает психастеника, как и его душевная инертность, несообразительность (в сравнении с «отличниками»). Но эта память с цепкими личностными крохами воспоминаний и способность от замедленности, «бестолковости» усмотреть особенное там, где очень многие его не замечают.
Сила психастенического научного ума, видимо, состоит в материалистическом, естественно-научном обобщении, хотя и замедленном, инертном, особенно в случае своей особой глубины (Дарвин, Павлов).
Психастеноподобное (гипертрофированно-мощный дефензивно-мыслительный (психастенический) радикал) присуще одной из характерологических мозаик группы эпилептических характеров. Там присутствует и напряжённо-авторитарный радикал с его склонностью к сильным влечениям (в том числе, страсть к азартным играм). Из русских писателей такими людьми были Некрасов, Достоевский, Лев Толстой. Об этом подробнее поговорим на следующем занятии. Но уже здесь скажу, что психастенический характер и мощный психастенический радикал (не только в эпилептической мозаике) способствовали тому, что русская психологическая проза (особенно 19 века) потрясла читающий мир. Потрясла своей невиданной мыслительно-страдающей, нравственной силой, этим уникальным духовным бессмертным богатством России. Кстати, Владимир Владимирович Набоков (1899–1977) понимал величие творчества Чехова как «обещание лучшего будущего для всего мира, ибо из всех законов Природы, возможно, самый замечательный — выживание слабейших» (Набоков В.В. Лекции по русской литературе. Пер. с англ. Г. Дашевского и А. Курт. М.: Изд-во «Независимая газета», 1998, с. 330).
Так подробно напомнил устройство психастенического и астенического характеров, чтобы, наконец, яснее стало, как сущность этого склада (психастенически-астенического) обнаруживает себя в его отношении к природе, в целительном творческом общении этих людей с природой.
Дело здесь в том, что эти люди, обычно весьма неравнодушные к природе, воспринимают её одухотворённо-материалистически, с размышлением и душевно-тепло. Для них растения и животные не духовнее, не мудрее нас, как у многих аутистов, а как будто бы наделены человеческой душой, переживаниями, когда психастеники, астеники наблюдают их. Природа нередко сильно действует на психастеническую, астеническую душу, примиряет с жизнью и при этом неразрывна с настроением человека, воспринимающего природу. Она как бы чувствует, переживает, как человек. Но это всё по-чеховски отстраненно, «как бы», как это видится человеку, сравнивающему растения и животных с собою, с людьми и переносящему в животных и растения своё настроение, свои, человеческие, чувства. Природа не мудрее человека, как у многих аутистов (например, у Тютчева), а «как бы» родная ему, переживая, как и он, человек. В растениях, животных живут чеховские переживания, настроения. «В пруде сердито, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: «И ты такова! И ты такова!» У Баратынского: «Что с нею, что с моей душой? / С ручьём она ручей / И с птичкой птичка! / С ним журчит, / Летает в небе с ней!» Природа здесь не только похожа на человека, как у синтонных, авторитарно-напряжённых реалистов, но и переживает, как человек. В этом смысле они вместе. Как человек и похожие на грустных, сгорбившихся людей стога Клода Моне. И в наше время тревожная девочка долго огорчает домашних тем, что до тошноты не может есть говяжьи котлеты, вспомнив, что они приготовлены из такой же коровы, которую вчера нежно гладила.
Своим таким отношением к природе психастеник, видимо, невольно познаёт характеры людей и свой собственный в сравнении с ними. Это помогает ему чувствовать себя собою, смягчает неопределённость-деперсонализационность в душе.
В то же время, особенно у психастеников (от деперсонализационной неуверенности в своих чувствах, вяловатой чувственности), нет синтонной возможности чувственно-подробно, точно видеть сразу много травинок и цветочков, что вызывает восторг и чувство растворения в природе. Тут всё «как бы», «сбоку» (как у Крамского, Моне), но это создаёт своё «деперсонализационное» настроение с возможностью одновременного печального раздумья о собственной временности в сравнении с увядающей и вновь возрождающейся веками Природы. «Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас». А из стихотворения Баратынского о «ручье» и «птичке» в детской книжке редактор выбрасывает, дабы не пугать детей, место о том, что не всякая душа «ликует» на этом «пире» солнца и весны. На этом пире счастлив лишь тот, «кто на нём / Забвенье мысли пьёт, / Кого далёко от неё / Он, дивный, унесёт!» Унесёт от мысли о временности нашей жизни.
Для сравнения вспомним наше прежнее занятие об аутистическом отношении к природе. Психастеники, астеники тяготеют к общению с природой с элементарным естественно-научным изучением её строения, жизни, с мыслями о своём происхождении из дикой природы, например, о родстве плазмы своей крови с морской водой (см. подробнее: 6, с. 79–82; 7, с. 249–252, 263–269). Им по душе приёмы терапии общением с природой из земной жизни (в естественно-научном духе). Аутистам (замкнуто-углублённым) ближе символическое, космическое в природе, исходящие из концепций психотерапевтические техники, медитации. Здесь нередко религиозные мысли, переживания реализуются в духовные практики. Аутист нередко готов восторженно или потаённо-мудро раствориться в «математической бесконечности мира», во Вселенской абстрактной Красоте. В способности по-пришвински видеть, чувствовать в Цветке Красоту, управляющую миром.
Психастеникам свойственно по-земному обдумывать картины живописцев природы, как бы вселять человеческую душу в растения, животных. Писать об этом в стихах, рассказах [19, с. 725–738]. Аутистам как бы родственно могут быть близки созвездия, звёзды, «вечные» камни.
Порою психастенику (психастеноподобному человеку) по причине бедной, деперсонализационной, чувственности приходится внимательно всматриваться в природу, в лепестки цветов, прожилки в листьях, в красоту крыльев бабочек и т.д., чтобы, всмотревшись, порадоваться и запомнить. Психастеник помогает себе фотоаппаратом, рисованием сохранить полученные ощущения. Дабы не было чувства, что не жил, в том числе, вместе с природой, среди природы. Аутист нередко одарён любовью к «вечному», подробно чувствует волшебные запахи, краски, звуки. Улавливает скрытые символы в царстве растений и животных. Психастеник глуховат перед этой чувственной палитрой. Другое дело — кваканье лягушек, похожая на злую старуху крапива, ворчливое журчание ручья или крик лесной птицы.
Психастеник-художник обычно не выписывает детали природы, поскольку не может их чувственно, по-бунински, охватить, запомнить в своей мягкой чувственно-тусклой деперсонализационности. Но его импрессионистически-реалистические мазки-намёки дают душевную, духовную работу зрителю, как пейзажи Моне.
Счастливая судьба человека психастенически-астенического круга зависит от того, насколько серьёзно удастся ему в жизни применить силу своей слабости (обычно в сложившейся, более или менее, «оранжерейной» (Павлов) обстановке). Эта сила слабости таится в его природном характере, прежде всего, — для непосредственной помощи страдающим людям и природе, в педагогической, литературной работе, для естественно-научных исследований в мире природы и человека.
Подробнее об особенностях отличий в переживаниях аутистов и психастеников (в том числе в отношении к природе) см. в талантливых произведениях тольяттинского психотерапевта, писательницы Татьяны Евгеньевны Гоголевич (Татьяны Смирновой) и тоже исследователя нашей школы, тоже известной своей книгой русскоязычному миру московского онколога, психотерапевта Татьяны Витальевны Орловой. Это: 9, 10, 18, 24. См. об этом и в моих книгах: 6, с. 264–316; 7, с. 30–39.
Все изображения приведены в образовательных целях. Список литературы опубликован в первой статье цикла. — прим. ред.


















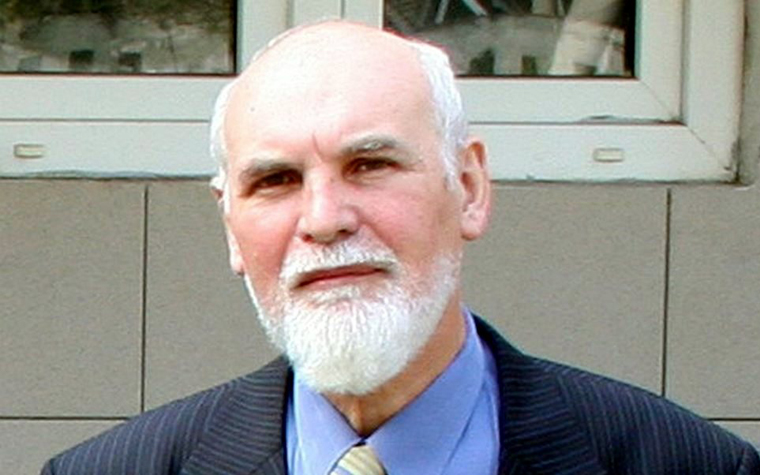









































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать