
Занятие для психиатрических тревожно-депрессивных хронических пациентов без острой психотики в группе творческого самовыражения, продолжает занятие о трёхстишиях Басё «По горной тропинке иду» («Психологическая газета», 28.12.2022).
Когда тревожно-депрессивная напряжённость пациентов усиливается суровостью жизни, растерянностью перед завтрашним — особенно важно помочь болезненно страдающему человеку глубже, проникновеннее почувствовать себя собою на своей жизненной дороге со своим смыслом, посильным добром людям и природе. Если здесь показана лекарственная терапия, то психотерапевтическая помощь в нашем духе — важное ей подспорье. Когда в сложное время творчески, подробнее постигаешь себя среди других, в душе делается светлее, вдохновеннее, смелее, спокойнее.
Сегодня поговорим, — сообщаю пациентам, — о соотношении символов и характеров в нашей жизни, в нашем психотерапевтическом методе [3–4].
Содержание этого занятия может быть сложным для некоторых пациентов. Поэтому лучше заранее домашними заданиями познакомить участников занятия с этим содержанием. Но не знакомить с заключением ведущего. Занятия такого рода укрепляют уверенность пациентов в своём человеческом достоинстве, в способности к одухотворённым размышлениям.
Что есть символ (с др.-греч. — знак)?
В «Словаре» Сергея Ивановича Ожегова и Наталии Юльевны Шведовой (1997) [8] символ в первом, широком, значении — это «то, что служит условным знаком какого-нибудь понятия, явления, идеи». «Голубь — символ мира. Якорь — символ надежды» (с. 717). Это — толкование символа в широком смысле. Но мы уже знаем, что люди с разной природой души, характера, с разным воспитанием могут толковать одно и то же слово-понятие (в данном случае — символ) по-разному, не слушаясь словарей. Философ Алексей Фёдорович Лосев (1893–1988) в своей книге «Проблема символа и реалистическое искусство» (1995) считал понятие символа в литературе, в искусстве, в быту «одним из самых туманных, сбивчивых и противоречивых понятий». «Почти все путают термин «символ» с такими терминами, как «аллегория», «эмблема», «персонификация», «тип», «миф» и т.д. И при всём этом все культурные языки мира неизменно пользуются этим термином и всячески его сохраняют, несмотря на десятки других терминов, которыми, казалось бы, вполне можно было его заменить» [5, с. 5]. Лосев отвлечённо-скрупулёзно, очень сложно (для меня, не философа) толкует существо символа. Для Лосева символ отличается от аллегории (например, басня, где звери говорят по-человечески) — тем, что символ не «перенос», а сама реальность, функция самой действительности, которая способна вновь отобразиться на действительности, но уже в целях её не хаотической и слепой трактовки, но в целях её закономерного конструирования для разумного как эволюционного, так и революционного её переделывания и преобразовании» [5, с. 267]. Именно в этом, прежде всего, видится Лосеву смысл символа. Поэтому чеховский «Вишнёвый сад» есть «символ уходящей России» [5, с. 26].
Для меня, врача-психотерапевта, «неразбериха» с понятием «символ» происходит, прежде всего, по причине разных природных характеров людей, произносящих, толкующих слово «символ». Ведь «путают термин», как сказано у Лосева, «культурные языки мира». То есть культурные люди разных характеров во всём мире. Естественно-научная характерология, на которую в нашем методе опираемся, всё же, по-моему, наводит здесь какой-то порядок.
Как обычно в нашей психотерапевтической жизни чувствует-толкует символ, смысл символа, размышляющий человек с замкнуто-углублённым характером?
Для него подлинная действительность (реальность) — не Материя, а изначальный Дух. Так он чувствует (порою с детства). Всё отчётливее чувствует, взрослея. И, более или менее, ощущает, что этот изначальный, вечный Дух как-то ведёт его своими дорогами по жизни. Что Гармония, Красота как бы посылается ему свыше. Если он верующий, это — Воля Божества (Предопределение) [8, с. 580]. Изначальный Дух (Бог, Духовный Миропорядок) чувствуется природой души такого человека, например, абстрактно-знаковыми символами: космически- математическими или философски-утончёнными идеалистическими (метафизическими). Или художественно-сновидными (вплоть до еле заметной сновидности): иконы Рублёва, нестеровские картины, хокку Басё, поэзия и проза Лермонтова, лошадки в фильме Тарковского под прозрачным дождём. Варианты одухотворённого аутистического склада и сообразные им различные символы неисчерпаемы. Символ как песчинка, проявление изначального Духа здесь тоже как-то ведёт своей дорогой по жизни.
Область постижения символов — труднейшая область, доступная в своих подробностях, по-моему, лишь глубоким метафизическим (идеалистическим) философам, способным к подводным исканиям в тревожной для меня темноте. Таким, как Лосев, Аверинцев, Мамардашвили, Пятигорский. Мераб Константинович Мамардашвили и Александр Моисеевич Пятигорский, например, полагают, что «символ есть вещь, а не условие рассмотрения или правило описания» [6, с. 135]. «Мы думаем, что символ только может быть непосредственно понятен тем, кто им оперирует» [6, с. 209]. Что тут понимается под «вещью»? «Отдельный предмет материальной действительности, обладающий относительной независимостью и устойчивостью существования» [10, с. 87]? Или «вещь» понимается здесь широко — как подлинная объективная реальность (в том числе Дух)? Но Аверинцев (скажу, забегая вперёд) считает, что «вещь» мы рассматриваем, а символ одновременно сам «смотрит» на нас [1, с. 828]. В этих метафизических тонкостях-разветвлениях мне, право, трудно дышать. Поэтому буду по-прежнему размышлять, в основном, исходя из своей специальности, исходя из своего клинико-психотерапевтического опыта, подхода, размышлять о том, что ещё кое-как понимаю. Думаю, вообще следует стремиться входить в сложные теоретические тонкости лишь тогда, когда душа сама тянется своим стремлением эти тонкости постигать. Всего не обнимешь. Для нас важно знать своё — то, что глубже, целебнее проникает в душу. То, что нас лечит.
Итак, погружаемся в наше живое целительное дело.
Для исследователя аутистического склада истинный символ есть, говоря по-нашему, аутистический символ. Т.е. такой символ, как чувствует-понимает его одухотворённый человек аутистического склада (характера). А такой человек — что бы как бы реалистически ни писал, ни говорил — чувствует, что происходит это «оттуда», и больше-меньше передаёт нам это своё чувство общения с неземным.
Вспомним хокку Басё из прежнего занятия.
И осенью хочется жить
Этой бабочке: пьёт торопливо
С хризантемы росу.
Больной опустился гусь
На поле холодной ночью.
Сон одинокий в пути.
И Бабочка, и Гусь, как, видимо, многие из нас чувствуют, — и земные, и вместе неземные. Как лошади и яблоки под дождём в фильмах Тарковского. Одних из нас, людей не аутистического склада (в отличие от Басё), эти трёхстишия (хокку) завораживают одухотворённо-таинственной гранью созвучия с замкнуто-углублённым поэтом. Завораживают еле ощутимой Тишиной Потустороннего, Вселенского. Ведь хокку — «окошко» в эту Вечную Тишину без добра и зла, без противоречий вообще. Как говорят, «по ту сторону слов». Но страдающие слова Басё о несчастных в земной жизни прорываются к нам из его трёхстиший и побуждают к практическому добру, к помощи страдающим. Люди реалистически-земные, стремящиеся и без побуждений, прежде всего, практически помочь страдающим, могут переживать хокку по-своему, практически-реалистически. У них своя практическая правда добра. Замкнуто-углублённый Басё всё же страдал за земных страдающих. И своим художественным страданием побуждал земных практиков к помощи обездоленным. По этой дороге шла и великая русская психологическая проза золотого века. Для каждого своё.
По-моему, глубокое, поистине помогающее мне и нам разобраться с символом в нашем психотерапевтическом методе, размышление принадлежит философу Сергею Сергеевичу Аверинцеву (1937–2004). Аверинцев понимает символ, переживаемый человеком аутистического склада («аутистический» символ) в науке (например, в логике, математике), — как «то же, что знак». А в искусстве — «образ, взятый в аспекте своей знаковости», «знак, наделённый всей органичностью и неисчерпаемой многозначностью образа». «Предметный образ и глубинный смысл выступают в структуре символа как два полюса, немыслимые один без другого, но и разведённые между собой и порождающие символ. Переходя в символ, образ становится «прозрачным»: смысл «просвечивает» сквозь него, будучи дан именно как смысловая глубина, смысловая перспектива». Символ невозможно дешифровать (расшифровать, разобрать, растолковать) «простым усилием рассудка», «он неотделим от структуры образа, не существует в качестве некой рациональной формулы, которую можно «вложить» в образ и затем извлечь из него». Если для знака «многозначность есть лишь помеха», то символ «тем содержательнее, чем более он многозначен». «Сама структура символа направлена на то, чтобы дать через каждое частное явление целостный образ мира (выделено мною — М.Б.)». Смысл символа «нельзя разъяснить, сведя к однозначной логической формуле, а можно лишь пояснить, соотнесся его с дальнейшими символическими сцеплениями, которые поведут к большей рациональной ясности, но не достигнут чистых понятий» [2, с. 581]. Аллегория же «поддаётся разгадке, однозначной, как басенная “мораль”» [1, с. 829].
Всё это взятое из работ Аверинцева, кажется, слава Богу, понимаю. Благодаря, видимо, грани созвучия с Аверинцевым. Но для того чтобы чувствовать-мыслить символ строго, точно по-аверинцевски, по-моему, необходимо быть хотя бы человеком аутистического склада. Аутистических разновидностей тоже немало.
Думаю, что и многие из вас тоже понимали или поймут Аверинцева. Нужно для этого не спеша вдуматься. А некоторые поймут по своему особенному созвучию с Аверинцевым глубже, чем я. И, конечно, прошу об этом потом нам рассказать. Но человеку практически-материалистического, «земного» склада (характера) всё это аверинцевское, по-видимому, трудновато прочувствовать-понять и усвоить. Потому что он — совсем другой, «трезвой», природой своей души, не похожей на аутистическую ни одним боком. Для того чтобы существенно помочь замкнуто-углублённому человеку, конечно, необходимо войти в эти характерологические аутистические основы-особенности, элементы. Впрочем, это ни в коем случае не должно огорчать «земного» материалиста-практика. Он не примитивнее человека аутистического, а просто другой, со своими духовными богатствами, которых у замкнуто-углублённых, у психастеников (с их малой гранью созвучия с аутистами) нет. У него немало своих, понятных ему, созвучных ему друзей. У синтонного психотерапевта-практика, кстати, в нашем методе много широких полей лечебной работы средствами своей души. Работы, с которой замкнуто-углублённому или психастеническому психотерапевту трудно справляться. Тем более что в России замкнуто-углублённых пациентов существенно меньше, нежели на Западе. Всё это — давняя тема зависимости душевного склада психотерапевта от душевного склада людей, которым он способен существенно помочь. И тут все работающие с душой психотерапевты способны существенно помочь, но — смотря какому кругу (кругам) пациентов. Поясняю всё это, ещё и потому что в нашей группе сейчас присутствуют и пациенты, и психотерапевты. В сущности, все мы пациенты, то есть более или менее «терпящие» (с латыни).
Возвращаясь к постижению смысла аутистического символа, вспомним из прежнего занятия о трёхстишиях Басё, что объяснить Дзэн логически, психологически, философски — невозможно (Судзуки). И вспомним (тоже из Судзуки) разговор Басё с его учителем Дзэна Бутте.
Бутте: «Как ты поживаешь все эти дни?»
Басё: «После недавнего дождя вырос мох, как никогда зелёный».
Бутте: «Какой буддизм существует до зелёности мха?»
Басё: «Лягушка прыгает в воду, слушай».
О чём это? О том, что смысл символов Дзэн логически постичь нельзя, можно бесконечно пояснять его «соотнося его (символ — М.Б.) с дальнейшими символическим сцеплениями» (С.С. Аверинцев) [2, с. 581].
Отмеченная Аверинцевым направленность «структуры символа» на то, чтобы дать через каждое частное явление целостный образ мира», видимо, побуждает, особенно верующего человека, думать об «образе Бога». И о смысле символа, просвечивающего сквозь образ (Аверинцев), — как о своём пути.
Аутистический символ — хокку Басё — видимо, образ своего Бога, Духовного Мироздания, «окошка» в Потустороннюю Тишину.
Символ, по Аверинцеву, «принципиально» отличается от однозначной аллегории — отличается своей «неисчерпаемой многозначностью образа» («целостный образ мира») [2, с. 581]. Аллегория (др.-греч. — иносказание) — «конкретный перенос» одного на другое. «Волк», «Лиса» с человечьими душами (характерами) из народной сказки; «Голубь», «Якорь» — из «Словаря» Ожегова и Шведовой. Вспоминается пастернаковское «образ мира, в слове явленный». Пастернак и Аверинцев — верующие, православные люди идеалистически-аутистического склада. Была ли для них разница между «целостным образом мира» и «образом Бога»? Думаю, нет.
Для одухотворённого материалиста (синтонного, психастенического, напряжённо-авторитарного) порою существует свой захватывающий космический, вселенский «целостный образ мира» как великая материальная, вселенская, природная Гармония без Бога. И тоже порою волнует такого человека трёхстишие Басё, открывающее окошко в Потустороннюю Тишину. Грань созвучия (только грань) с человеком аутистического склада, думается, объясняется здесь именно одухотворённостью. Итак, прошу не соглашаться со мною, смело говорить о том, что просится из души о том, как понимаю символ, аллегорию — для своей жизни, своего пути.
Далее предлагаю вслушаться, вчитаться (на экране) в отрывки из чеховских рассказов.
Рассказ «Белолобый» (1895).
Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и всё думала о том, как бы дома без неё кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и тёмная унавоженная дорога пугали её; ей казалось, будто за деревьями в потёмках стоят люди и где-то за лесом воют собаки.
Ещё один отрывок из чеховского рассказа «Нахлебники» (1886). Там одинокий старик, обедневший мещанин, уже не способен кормить своих пса и лошадь. Они преданно, робко всё ходят за ним и просят поесть, пока, наконец, не отводит их, рассердившись, на живодёрню.
…из двери сарайчика глядела на него большая лошадиная голова. Вероятно, польщённая вниманием хозяина, голова задвигалась, подалась вперёд, и из сарая показалась целая лошадь, такая же дряхлая, как Лыска (пёс хозяина — М.Б.), такая же робкая и забитая, тонконогая, седая с втянутым животом и костистой спиною. Она вышла из сарая и в нерешительности остановилась, точно сконфузилась.
Ещё предлагаю прочувствовать лермонтовское стихотворение «Утёс» (1841).
Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утёса. Одиноко
Он стоит. Задумался глубоко
И тихонько плачет он в пустыне.
Вопросы участникам занятия.
- Что сам (сама) считаю символом и почему? Символ для меня — это какое-то особенное иносказание или вообще любое?
- В каких из этих стихотворений или отрывков из рассказов вижу то, что считаю для себя истинным символом?
- Обусловлен ли истинный для меня символ (его строение, смысл) каким-то человеческим характером? Если обусловлен, то каким (какими) характером, как и почему?
- Помогает ли мне разбираться в людях, в себе, в жизни, в смысле моей жизни это наше размышление о соотношении символов и характеров? Как помогает, если помогает?
Моё заключение (заключение ведущего) после ответов пациентов на вопросы, после дискуссии.
У психастенического Антона Чехова было сложное отношение к религии. В целом он был, по-моему, одухотворённым материалистом с желанием веровать. Это вспоминая прежние наши занятия [4, с. 541–555]. Из упомянутых чеховских рассказов «мнительная» волчиха и робкая седая голодная лошадь, которая «точно сконфузилась», «польщённая вниманием хозяина», — это, конечно, для меня, не символы в аутистическом аверинцевском понимании. Не символы потому, что в них не звучит явственно целостный Духовный образ мира, Божественное мироздание, Потустороннее. Это тоже образы неисчерпаемо многозначные (не однозначные — тут не согласен с Аверинцевым). Но неисчерпаемо-многозначные в общечеловеческом, реалистическом (в принятом смысле), одухотворённо-материалистическом, земном чувствовании-понимании. Это перенос: волчиха, лошадь с человечьими душами (характерами). Это одухотворённая аллегория. И тоже, как у Басё, страдание за страдающих. Для не способных истинно веровать — это так же высоко своим содержанием, как Вера. Но характерологически иное, земное, человечно-общечеловеческое переживание — в согласии с чеховским мироощущением.
Лермонтовский «Утёс» для меня — истинный аутистический символ. Тоже как будто бы перенос человеческого переживания на природное — «тучку» и камень. Но с каким Божественным-Космическим неземным звучанием! Это — «оттуда». Так чувствую. Это одухотворённо-аутистический Лермонтов. Понимаю, что всё это, видимо, можно лишь почувствовать гранью созвучия любого одухотворённого материалиста с одухотворённым идеалистом…
Символ в понимании философа Лосева (см. выше), способный разумно преобразовывать действительность, возможно, также есть Божественное [5, с. 267]?
Аутистоподобный полифонист (полифонист с выраженным аутистическим радикалом в мозаике характера) иногда довольно похож на человека с аутистическим характером, в том числе, и своей близостью к аутистическим символам, к религии. Чаще, однако, полифонисты одновременно с идеалистичностью — материалисты. В таких случаях их художественные символы (точнее, как бы символы) являют собою, сообразно тому или другому собранию характерологических радикалов в своём характере, сплетение гиперреалистического с идеалистически-сказочным (эмблема — «добрая» или «зловещая»). И большое разнообразие здесь мозаичных полифонических мироощущений.
Вспоминая положения Аверинцева о символе в строгом, аверинцевски -аутистическом смысле, подытожу, что для идеалиста-аутиста символ есть некое выражение (изображение) изначального Духа, правящего миром. Изображение неисчерпаемо многозначное, «целостный образ мира». Для верующего идеалиста символ — Божественное.
Люди с аутистическим характером, повторю, бесконечно разные. Их аутистические символы, сообразно этому, также — бесконечно разнообразные. Они могут быть загадочно-знаковыми — как в живописи Кандинского, Модильяни, углублённо-утончёнными, философскими, как в поэзии Тютчева, Бродского. Могут быть, мягко-сновидными, как в живописи Боттичелли, Борисова-Мусатова, Крымова, как в поэзии Жуковского, Гумилёва, Ахматовой. Символы «одухотворённо-тёплые» и «агрессивно-сердитые» [3–4]:
- В. Кандинский. Композиция VII (1913 г.);
- А. Модильяни. Жанна Эбютерн (1919 г.);
- С. Боттичелли. Весна (1482 г.);
- В. Борисов-Мусатов. Призраки (1903 г.);
- Н. Крымов. Зимний вечер (1919 г.).
Одухотворённый психастеник, или циклоид (синтонный), или полифонист-гиперматериалист постигают мир по-своему — обычно символами лишь в широком понимании. Например, аллегориями, метафорами. Здесь обычно нет более или менее слышного вселенского сияния, сияния «оттуда», сияния изначального Духа. Есть нередко изначально природное, человеческое, человечность. Есть и земное добро, и земное зло.
Напомню, возвращаясь к полифонической эмблеме, первую строфу из стихотворения Осипа Мандельштама «Импрессионизм» («Написано под впечатлением от картины К. Моне «Сирень на солнце») (1932).
Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.
А вот полифонические картины:
- В. Ван Гог. Терраса кофе ночью (1888 г.);
- С. Дали. Явление лица и вазы с фруктами на берегу моря (1983 г.).
Для Аверинцева «смысл символа реально существует только внутри человеческого общения, вне которого, можно наблюдать только пустую форму символа» [2, с. 581]. Вспомним диалог Басё с его учителем Дзэна Бутте о мхе и лягушке. Это диалог одухотворённых аутистических людей. Они созвучно чувствуют неуловимый смысл символа (Дзэна) как бы по ту сторону слов и лишь в диалоге. Аллегорию может растолковать и «чужой», а в символе «есть теплота сплачивающей тайны». По символу опознают и понимают друг друга “свои”» [1, с. 827].
Вспоминается для сравнения подтекст, психастеническое чеховское «подводное течение» (термин тоже психастенического Станиславского). Люди произносят как бы обычные слова об обычном. Например, доктор Астров говорит зачем-то о «жарище» в «этой самой Африке» (у стены с картой Африки, картой, которая неизвестно зачем висит в русском имении). При этом, непонятно почему, — для многих, «имеющих уши», вдруг открывается, постигается без разъяснения глубокая горькая драма жизни несчастных, тонко чувствующих людей. И это тоже, по-моему, не символ. Это сложная гениальная одухотворённая аллегория (иносказание, перенос). Конкретное земное иносказание, прикрывающее собою, трудновыразимое сплетение добра и зла, высвечивающееся сквозь нечто конкретное. Люди говорят об одном, а думают-переживают в это время другое, и то, что они переживают, как-то выразительно чувствуется-сказывается в обычных, как бы не имеющих отношения к этим переживаниям, словах. Это не Потустороннее, не изначально Духовное, не «целостный образ мира» (Аверинцев). Это — тёплое, человечное, грустное, общечеловечески-реалистическое, глубинно-психологическое, психастенически-земное.
Для каждого свое.
Русский православный символ может быть тоже внешне бесконечно простым, естественным, как бы совершенно реалистическим. Как и у Басё. Одухотворённый калужский писатель, хирург Андрей Юрьевич Убогий в автобиографической книге «Дороги» (2001) [9] рассказывает о жизненных своих дорогах. Рассказывает с мягко, скромно сияющим чувством своей вечно живой души.
«Родов своих я, конечно, не помню. Но первой из пройденных мною дорог были именно родовые пути. Мы все постарались забыть о том испытании, что нам выпало в самом начале. Но память о нём всё же где-то живёт в ночных кошмарах, в неясном томленье души — или, может быть, эта память всплывёт лишь в предсмертных томительных снах? … Откуда б мы знали тоску, боль и страх — когда б не родились сквозь них, вместе с ними?» (с. 4). «Всё же главные наши дороги — те, по которым проходит душа. Путь как движенье души, как её пробуждение к смыслу — только это, по сути, имеет значение» (с. 28). «Быть может, создание текста есть способ вернуться в утерянный рай, в то начальное место, где мы были когда-то — но откуда извергло нас грехопадение» (с. 88). «По сути, вся наша жизнь — возвращение» (с. 101). «Не спеша я пройду по меже на низы огородов, повторяя тот путь, по которому некогда шёл пятилетний испуганно-радостный мальчик. Метёлки травы защекочут колени; фонари оранжевых тыкв загорятся меж гряд; и повсюду, искрясь, заблестят паутинные нити. Этими Божьими швами сейчас воедино удержан и собран весь мир: отныне, ты знаешь, вовеки пребудет его полнота, его, неподвластная смерти и времени, жизнь…» (с. 102). «Автор писал эту книгу в последние годы тысячелетия с надеждой и верою в то, что душа человека — единственная дорога, которая не кончается никогда» (с. 2).
Всё это не есть аллегория. Это Божественный художественный символ в понимании Аверинцева.
А в чеховском «Студенте» (1894) [11] Иван Великопольский, студент духовной академии, в Страстную пятницу, ночью, у костра, на огородах, рассказывает двум деревенским бабам, матери и дочери, евангельское событие. О том, как тревожный апостол Пётр, искренне любящий Христа, трижды отрёкся от него (как ему предсказал Христос) и потом мучился, рыдая. Студент рассказывает об этом так жизненно, по-земному, что бабы страдают, слушая. «Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошёл дальше». Он «думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение…»; «… если Василиса заплакала, а её дочь смутилась, то, очевидно, то, о чём он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Пётр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра». И ещё «студент думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле…» (с. 308–309).
Символ ли это? В аутистическом понимании Аверинцева? Божественный художественный символ ниспосылаемого свыше? По-моему, нет. Это реалистически-психологическое. Характерологическое душевное, духовное созвучие земных деревенских женщин с апостолом Петром. Не чувствую в чеховском рассказе сияния изначального Духа, Божественного. Это могло бы быть и не евангельское, а изначально земное, горькое отречение от Учителя, совершённое слабым, тревожным, страдающим человеком Петром. Для меня всё это, как чувствую, размышляю, — гениальная человечная одухотворённая Аллегория «правды и красоты, направляющих человеческую жизнь». Земную душевную жизнь направляет здесь земное. «Правда» — в том, что и хороший, честный человек может быть слабым. А «Красота» — в том, что есть на свете нравственная мука раскаяния за отречение от Учителя. В сущности, земное нравственное страдание. Для меня.
Да, чеховское для меня одухотворённая Аллегория. Конечно, более сложная, нежели «Якорь — аллегория надежды». Или же это чеховское — может быть, символ в широком, не только идеалистическом, толковании.
Вот перед нами — религиозно-идеалистический, христианский нравственный Символ («Дороги» верующего Андрея Убогого) и реалистически-материалистическое, психологически-земное аллегорическое переживание, Аллегория («Студент» Антона Чехова). И то, и другое — глубоко человечно, прекрасно.
Это при всём том, что сам не могу не преклоняться перед великим духовным содержанием Евангелия, не могу не стремиться всей душой к Вере.
Последнее. Хотелось бы, чтобы сегодняшнее занятие помогло глубже изучить себя. Подробнее почувствовать, понять для этого своё отношение к символу, аллегории, к религии. Побуждение к религиозным переживаниям, конечно же, дело не психотерапевта, а священника. Психотерапевт, помогающий нашим методом, может лишь пояснить человеку его природные особенности, располагающие к Вере, возможные характерологические картины его религиозных переживаний. К этому по-своему стремятся и священники [4, с. 541–555; 7].
В сущности, люди всех характеров, более или менее, предрасположены к Вере. Но предрасположены по-разному и в различных обстоятельствах, в разных своих душевных состояниях, в разном возрасте.
Страдающему от своего неверия может серьёзно помочь убеждённость в своём искреннем служении добрым делам по причине природной предрасположенности к нравственным переживаниям. Нередко говорили и говорят, что такие люди, по сути своей, верующие христиане, не знающие этого. И даже более христиане, нежели иные посещающие церковь. Это так важно вспомнить такому страдающему человеку. Тем более — если он в своих размышлениях не способен решить для себя, что же есть истинная объективная реальность, не зависящая от наших природных характеров, — изначальный Дух или изначальная Материя.
Спасибо!
Литература
- Аверинцев С.С. Символ художественный // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А.А. Сурков. Т. 6. — М.: Советская энциклопедия, 1971. — С. 826-831.
- Аверинцев С.С. Символ // Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичёв и др. — 2-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — С. 581-582.
- Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод). 4-е изд., испр. и доп. — М.: Академический Проект; Альма Матер, 2012. — 487 с., ил.
- Бурно М.Е. О характерах людей (Психотерапевтическая книга). — Изд. 7-е, испр. и доп. — М.: Институт консультирования и системных решений, Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, 2019. — 592 с., ил.
- Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. — 2-е изд., испр. — М.: Искусство, 1995. — 320 с.
- Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание (Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке). — М.: Прогресс — Традиция, Фонд Мераба Мамардашвили, 2009. — 288 с.
- Мать Мария (Скобцова). Типы религиозной жизни. Изд-е 4-е. — М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 1993. — 68 с.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. — 4-е изд., дополн. — М.: Азбуковник, 1997. — 944 с.
- Убогий А.Ю. Дороги. Книга прозы — Калуга: Полиграф-Информ, 2001. — 160 с.
- Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — 815 с.
- Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 томах. Т. 8 — М.: Наука, 1977. — 528 с.
















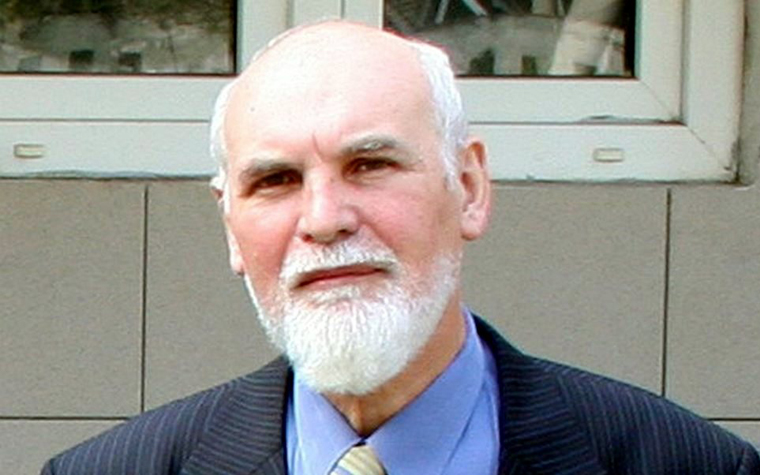









































Чудесное произведение!
, чтобы комментировать