
Это занятие о любви предназначено для довольно тяжёлых, но без психотики (во время занятия) психиатрических пациентов. Многие из них застыли в своих движениях, гипомимичны, рыхло потолстели, с эндокринными нарушениями (в том числе, от постоянного, длительного приёма необходимых им лекарств).
В праздничной обстановке нашей кафедрально-диспансерной психотерапевтической амбулатории с чаем, свечами, слайдами, в обстановке клинического театра [1; 4] и такие пациенты сдруживаются между собою. Теперь, в электронно-карантинные времена, видим лишь остатки той прежней гостиной.
Дефензивные постпроцессуальные пациенты, по причине своей душевной блейлеровской эндогенно-процессуальной расщеплённости нередко гонимые благополучными людьми, мучаются одиночеством. Друг с другом им легче, но и тут нет здоровой способности к целостной чувственной, человечной душевно-телесной любви — «как у всех». Есть задушевное тепло, нежность, сложная, тонкая влюблённость, искренность, но и эти драгоценности беспомощно расщеплены. Больная природа побуждает искать в людях нежность к себе, любовь к себе хотя бы кого-нибудь, а это всё нередко выходит в своих поисках-поступках как-то неуклюже, отталкивающе.
Многие из таких пациентов не способны к обычным любовным интимным отношениям при всём их расщеплённом любопытстве и стремлении, подогретыми эротическими фильмами и литературой, делать это так, «как все». Онанизм не смущает их, в отличие от невротиков, но и от него толку обычно мало от вялой тут чувственности, и мука одиночества только усиливается. Опытный сексолог обычно не способен здесь помочь.
Семён Исидорович Консторум (1890–1950) подробно не затрагивал эту тему в отношении таких «перенёсших в прошлом приступы шизофрении» тяжёлых больных. Консторум отмечает следующее: «В сексуальной сфере для этих больных характерно снижение либидо и недостаточность эрекций. Здесь приходится иметь дело уже с биологическим минусом, а не психогенно обусловленным нарушением дуги условного рефлекса. <...> часть этих больных совершенно безнадёжна в терапевтическом отношении» [5, с. 167]. Предполагаю, что речь идёт именно о тех консторумских пациентах, у которых сексуальность особенно «сильно ущерблена» болезненным процессом. «Восстановление биологически ущерблённого влечения психотерапевтическим путём представляется невозможным. В подобных случаях правильнее совершенно запретить больному всякие попытки к coitus-у и призвать его к терпению, указав, что восстановление есть вопрос времени, а в остальном обратиться к помощи тонизирующих медикаментозных или физиотерапевтических (безусловно, не местных, а общих) мероприятий» [5, с 168].
Мой опыт в этой области подтверждает настоящие советы-размышления глубокого психиатра-психотерапевта. И сам категорически не советую применять в таких случаях появившиеся уже в наше время сильные сексологические стимуляторы по причине их способности оживлять шизофренический процесс.
За долгие годы работы убедился в том, что в этих клинических случаях главное переживание, в сущности, не столько об ущерблённой сексуальности, сколько о душевном, духовном одиночестве. Это — тягостное стремление любить, быть любимым без особой тоскливости по поводу своего вялого, расщеплённого сексуального влечения. Это скорее житейская склонность-навязчивость любить не поэтически-платонически, а «делать как все».
Настоящих пациентов и особенности работы с ними в нашем методе (ТТСБ) уже описывал [2; 3]. Но мы проживали с некоторыми из них в психотерапевтической гостиной и рассказ Платонова о любви «Река Потудань». Чем он помогал и может помочь?
Многие тяжёлые пациенты не знали этот рассказ и им трудно было достать и читать большой рассказ заранее по заданию. Даже просто прослушивание рассказа в гостиной в моём кратком выразительном пересказе действовало психотерапевтически благодатно. Поэтому даю здесь этот пересказ (с цитатами), в котором выбрано то, что нам необходимо для работы.
В родной «малоизвестный уездный город» недалеко от реки Потудань возвращается с гражданской войны демобилизованный красноармеец Никита Фирсов. Двадцатипятилетний, «со скромным, как бы постоянно опечаленным лицом». Его ждёт отец, столяр в «мастерской крестьянской мебели». Матери и двух братьев уже нет в живых. До войны отец и Никита ходили в гости к учительнице и её дочери, «задумчивой девочке Любе». Люба читала свои книжки, и ещё было там пианино. Никиту и сейчас тянуло к этому дому. И вот он «на главной улице уезда» встретил «большую, выросшую Любу». «Она грустно и смущённо улыбалась ему». «Никита подошёл к ней и бережно оглядел её — точно ли она сохранилась вся в целости, потому что даже в воспоминании она для него была драгоценностью. Австрийские башмаки её, зашнурованные бечевой, сильно износились, кисейное, бледное платье доходило ей только до колен, больше, наверно, не хватило материала, и это платье заставило Никиту сразу сжалиться над Любой — он видел такие же платья на женщинах в гробах, а здесь кисея покрывала живое, выросшее, но бедное тело». «Её чистые глаза, наполненные тайною душою, нежно глядели на Никиту, словно любовались им». Они пошли к её дому. Мать её умерла. Не было ни пианино, ни «шкафа с резьбою по всему фасу», «около изразцовой печи находилась небольшая железная печка, которую можно истопить горстью щепок, чтобы немного согреться около неё». Люба «училась теперь в уездной академии медицинских наук». Она сказала: «Вы посидите ещё, а я лягу спать, а то мне очень сильно есть хочется, а я не хочу думать об этом…».
Никита стал работать, как и отец, в мастерской крестьянской мебели и приносил Любе хлеб, варёную рыбу — «своё второе блюдо от обеда в рабочей столовой». Поев, Люба уже не спала, а «учила по книжке свою медицину». Никита разжигал щепками печку, чтобы Любе был свет для чтения, «глядел на огонь, потому что боялся надоесть Любе своим взглядом». Он «загодя заказал сшить из своей красноармейской шинели женское пальто для Любы».
Когда Никита тяжело заболел гриппом или тифом, Люба взяла его к себе домой и, «сняв верхнее платье, легла к больному под одеяло, потому что Никита дрожал от лихорадки и надо было согреть его. Люба обняла Никиту и прижала к себе, а он свернулся от стужи в комок и прильнул лицом к её груди, чтобы теснее ощущать чужую, высшую, лучшую жизнь и позабыть своё мучение, своё продрогшее пустое тело».Никита поправился.
Пока Люба училась, «они терпеливо дружили вдвоём почти всю долгую зиму, томимые предчувствием своего близкого, будущего счастья». Отец Никиты сделал им к марту, к свадьбе, большой шкаф. И вот «записались в уездном Совете на брак», «пришли в комнату Любы и не знали, чем им заняться». Люба предложила «сначала» поесть: её наградили продуктами за окончание академии. Потом она открыла Никите объятия. Но близость «как у всех» не получилась. И ночью тоже не вышло «как у всех». Оказалось, что «надо уметь наслаждаться, а Никита не может мучить Любу ради своего счастья, и у него вся сила бьётся в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде». Люба успокаивала мужа: «У нас всё с тобой наладится!» А он от тягостного чувства вины тщательно мыл пол, вытирал влажной тряпкой мебель, помогал Любе умываться. Всем этим он был «мил и дорог» Любе, и она уже была готова быть с ним «вечной девушкой». Но сказала, веруя, что всё «наладится», о том, что надо заранее подумать о детской мебели. А Никита ждал, когда вскроется река Потудань, чтобы утопиться в ней. Река, наконец, тронулась; он всё-таки решил не умирать, пока Люба «ещё терпит его». Но «никакой работой не мог утомить своё горе и боялся, как в детстве, приближающейся ночи».
Как-то ночью Никита заметил, что Люба «осторожно, почти неслышно» плачет под одеялом. Тогда он ушёл из дома в далёкую слободу, работал там на базаре день и ночь помощником сторожа, чистил отхожее место, делал всякую тяжёлую и грязную работу, чтобы «перестать думать о Любе, о заботах жизни и о самом себе». Прожил там «долгое время». «Отвыкнув сначала говорить, он и думать, вспоминать и мучиться стал меньше». Там Никита вдруг встретил вечером отца, который пришёл с мешком за крупой, и узнал, что Люба так «сильно убивалась» по нему, что месяц ходила по берегу Потудани, надеясь, что тело его всплывёт. А потом сама утопилась, но рыбаки вытащили и отходили. Сердце Никиты «наполнилось горем и силой». Он побежал домой. Уже настала ночь. Люба не спала в кровати. «Иди скорей ко мне! — попросила она своим прежним, нежным голосом и протянула руки Никите». «Он пожелал её всю, чтобы она утешилась, и жестокая жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал её обыкновенно, он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всём его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением». Когда Люба потом спросила, как ему с ней было, он сказал, что «уже привык быть счастливым» с ней.
После этого краткого пересказа спрашиваем пациентов, в чём же всё-таки любовное счастье Никиты.
Рассказал однажды, как на одном театральном спектакле по этому рассказу переживавшие за Никиту и Любу зрители-девушки радостно захлопали, когда вот всё, наконец, получилось, «как у всех».
В этом ли любовное счастье Никиты?
В обсуждении приходим к тому, что счастье Никиты не в этом. Он уже давно был счастлив Любой («уже привык быть счастливым»), но его съедало тяжёлое чувство вины перед нею. Счастье Никиты, сердечного, нежного, доброго, стыдливого, склонного слишком глубоко переживать свою вину, в которой не виноват, — счастье его не в открывшейся вдруг сексуальной чувственности с удавшейся мужской силой, а в другом. В чём же другом? В той врождённой нежности, с которой он «бережно оглядел» Любу после долгого расставания, потому что она была для него «драгоценностью». В том, что он так горько и самоотверженно сжалился над Любой, что голодает, что не хватило материала на её платье, мёрзнет она, нет у неё пальто, второе блюдо ей приносил от своего рабочего обеда, стыдливо боялся надоесть ей своим влюблённым взглядом. Заботился и заботился о ней, боготворил её.
Узнав, что Люба чуть не утопилась из-за него до смерти, прибежал ночью, как сумасшедший, к ней, «пожелал её всю», и произошла, наконец их «близкая любовь». И вот когда это случилось, Никита не узнал от этой «близкой любви», от этого «бедного, но необходимого наслаждения» «более высшей радости, чем знал обыкновенно», то есть той радости любви, о которой мы сейчас говорили. Эта радость любви для Никиты есть давняя его нежность к Любе, искренность, любовь-жалость и неустанное стремление заботиться о любимой. Это не просто дружба, это и желание к нежным любовным прикосновениям, которые могут быть беспредельны. «Бедное, но необходимое наслаждение» может случиться даже в сновидении, и в этом нет ничего страшного. Истинная радость любви — в другом. Это другое — чувствовать искреннюю любящую нежность к любимому человеку, жалеть его, заботиться о нём, греть его теплом своей души, нежными прикосновениями, быть с ним душевно, духовно постоянно вместе в жизненных делах и размышлениях.
Андрей Платонович Платонов в незаконченной повести «Однажды любившие (Повесть в письмах)» пишет следующее: «Природа беспощадна и требует к себе откровенных отношений. Любовь — мера одарённости жизнью людей, но она, вопреки всему, в очень малой степени сексуальность» [6, с. 650].
Конечно же, любовь, радость любви, у людей необыкновенно разная — в зависимости от устройства души, тела, от природы характера. Для иных возможно годами жить нежной, тихой любовью «издалека» — так, что человек, которого любишь, и не знает о твоей любви. Или может быть затаённая любовь к писателю, композитору, жившему в прошлом веке, с погружением в подробности его творчества, биографии. Это всё настоящая, хотя и воображаемая любовь. Не воображаемая любовь Никиты Фирсова, о которой мы говорили сегодня, не хуже и не лучше любви ярко чувственной, жизненной, страстной. Для каждого своё по природе его.
Конечно, Никита глубоко дефензивный человек. Скорее всего, дефензивный простонародный — с преобладающим над другими психастеническим радикалом в характере. Человек, природой своей мало предрасположенный к большой, острой чувственности, «бешеной» страсти. Душевно замедленный человек, но с глубинной бесценной нежностью, добротой и нескончаемой преданностью любимой.
Любовь Никиты — по-своему полноценна, прекрасна. Как и любовь человека, вообще не способного в любовной радости к тому «бедному, но необходимому наслаждению».
Литература
- Бурно М.Е. Клинический театр-сообщество в психиатрии (руководство для психотерапевтов, психиатров, клинических психологов и социальных работников). — М.: Академический Проект, Альма Матер, 2009. — 719 с.
- Бурно М.Е. Опыт реабилитационной психотерапии шизофрении (Терапия творческим самовыражением М.Е. Бурно — ТТСБ) // Психотерапия. — 2010. — № 4 (208). — С. 42–70.
- Бурно М.Е. Из практики. «Любовь Пришвина» (к занятиям в группе творческого самовыражения (ТТСБ)) // Психотерапия. — 2020. № 11 (215). — С. 24–39.
- Бурно М.Е., Калмыкова И.Ю. Практикум по терапии творческим самовыражением (М.Е. Бурно). — М.: Институт консультирования и системных решений, ОППЛ, 2018. — 200 с.
- Платонов А. «… я прожил жизнь»: Письма. 1920-1950. — М.: Астрель, 2013. — 685 с.

.jpg)




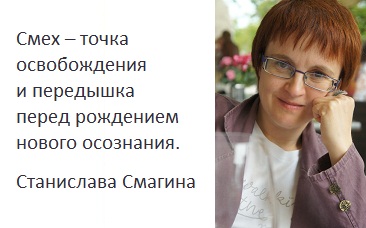


















































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать