
Лекция прочитана в рамках VI Всероссийского фестиваля практической психологии «Где дни облачны и кратки...», который состоялся 6-8 февраля в Санкт-Петербурге. Виктор Михайлович Аллахвердов – доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, Почетный президент Санкт-Петербургского психологического общества, член Президентского совета и Экспертного совета Российского психологического общества.
«Дорогие коллеги, я – психолог-теоретик, а, как я понимаю, большинство присутствующих здесь – психологи-практики? Я прекрасно понимаю, что практики достаточно скептически относятся к теоретическим построениям, хотя надеются на что-то от теории. Я попробую, с одной стороны, разрушить ваше представление о скепсисе, потому что теория имеет значение, но совсем не то, о котором думают. И показать, почему теория сегодня не так хороша, как нам бы хотелось. Заодно показать, как думают психологи-теоретики, и посвятить несколько моментов тому, чего мы вообще не понимаем…
Сначала – о соотношении теории и практики. Почему-то, несмотря на то, что марксистские тенденции все меньше и меньше звучат в аудиториях, все всё равно уверены, что теория проверяется на практике. Почему-то все полагают, что практика вытекает из теории. Во-первых, так никогда не было ни в одной науке. Практика всегда опережала теорию. Изменения произошли в физике в конце 19 века, но до этого физике в течение столетий приходилось развиваться теоретически, чтобы потом обогнать практику. Психология – это молодая наука, практика, безусловно, опережает теорию. Мы многое умеем, но очень мало, что знаем. Практика, конечно, очень важна для теоретиков, потому что они должны понять, а почему это работает. Вроде бы, не должно, а оно работает. А вот зачем теория нужна практикам? Представьте себе, что строят мост. Мосты строили еще тогда, когда никаких теорий не было – берут и строят. И вы видели наверняка старые мосты, которые стоят уже столетиями, и будут стоять, и ничего с ними не произойдет. Но вот когда мы строим мост, как рассчитать надежность моста? Построить-то можем, нам даже теории для этого не нужно, а вот надежность как рассчитать? Оказывается, что надежность моста мы можем рассчитать только теоретически, понимаете? Я могу построить мост, но я не могу сказать, сколько он будет стоять, с какими порывами ветра он может справиться. Когда мы занимаемся практической работой с людьми, и мы, вроде бы, помогаем, а как нам проверить, надежно оценить, что мы действительно помогаем? Вот мы провели тренинг, все участники благодарят, а после этого, скажем, коллективный суицид может быть. Мы так организовали все дело. Мы знаем, что потом произойдет? Субъективная оценка участника тренинга или клиента в психотерапии, вообще говоря, ни о чем не говорит.
Как посчитать надежность? И вот тут оказывается, что нужна теория. Сегодняшние теории, конечно, очень плохонькие, они мало нам помогают в этом. Но все-таки, если мы опираемся на теоретические конструкции, мы более-менее уверены, что мы что-то полезное делаем, а не только нам кажется, что мы что-то полезное делаем. Теория нам нужна, чтобы проверять практику.
Сама теория на практике не проверяется, теория – это нечто другое. Что такое вообще теория? Теоретик – это детектив. Настоящие детективы (Холмс, Пуаро), что они делают? Они сталкиваются с ситуацией абсурда и начинают думать, чем можно этот абсурд объяснить. Пропадает ботинок лорда Баскервиля, он не понимает, кому может понадобиться один ботинок, но Холмс понимает: ботинок нужен, чтобы собака понюхала. Он придумывает ситуацию, при которой этот абсурд становится логичным. Теоретики делают то же самое – они сталкиваются с ситуацией абсурда и пытаются найти способ этот абсурд разрешить. Если ситуации абсурда нет, теоретику нечего делать. Извините за физическое отступление в начале, но оно поясняет, как работает теоретик. Я вам расскажу, с чего началась естественная наука. Точка начала естественной науки более-менее известна. Конечно, можно говорить, что отец естественной науки – Леонардо да Винчи, но это шутка.
Реальный отец естественной науки – Галилео Галилей. И вот посмотрите, какую ситуацию решает Галилей. Казалось бы, мелочи. Все наблюдатели, начиная с Аристотеля, включая Леонардо, знают, что тяжелые тела падают быстрее, чем легкие… В чем проблема? А проблема очень простая. Тяжелые тела падают быстрее легких. Давайте мы свяжем тела. Связанное тело должно падать быстрее, но, с другой стороны, легкое тело падает медленнее, оно должно тормозить тяжелое и тогда они должны падать медленнее. Мы получаем противоречие. Как из него выкрутиться? Ситуация абсурда «верно А» и «верно не А», «должно падать быстрее» и «должно падать медленнее». Так не может быть. Как выйти из положения? Единственное допущение, что они падают одновременно, и тогда не будет проблемы. Но почему же тогда тяжелые тела падают быстрее? И тут Галилей придумывает идею: работает сила сопротивления. Тяжелые тела быстрее преодолевают силу сопротивления, у них большая масса, поэтому они падают быстрее, но если нет сопротивления, будут падать медленнее. И Галилей это показывает на опытах. В школе вам рассказывали, как по наклонным плоскостям скатывают шарики, я уж не буду вдаваться в детали. Стоп, но если есть сила сопротивления, которая тормозит движение тела, но что будет, если мы просто бросим камень по земле? Он быстро останавливается. Все всегда говорили до Галилея, что тело движется, потому что на него действует сила. Но Галилей говорит, что тело останавливается, потому что на него действует сила. Посмотрите: бросили по земле камень, он прокатился какое-то время и остановился. А по льду он подскочит дальше. Если мы в принципе уберем силу сопротивления, то он будет двигаться без остановки. Принцип энергии. Полный переворот в физике! И что бы потом в физике ни происходило (появление теории относительности, квантовой механики), принцип энергии работает. Понятно, что делает теоретик? Он придумывает причину… Что есть причина? Это то, что мы придумываем, чтобы разрешить противоречие.
Кстати, практики, когда работают с клиентом, делают то же самое. Они смотрят, что человек что-то странное делает, говорит или думает и начинают придумывать причину, почему у него такое может быть. Это локальная вещь, которая здесь и теперь. А теоретик размышляет про все и начинает придумывать причину, как разрешить возникающее противоречие. Противоречия могут быть разного рода. Как мы получаем новое знание? Меня всегда поражает, как объясняют механизмы научения в бихевиоризме. Объясняют, что, если мы повторяем свои действия, то находим более хороший вариант и его начинаем повторять. Чувствуете бессмысленность объяснения? Если мы повторяем, то мы не улучшаем, мы делаем то же самое, лучше быть не может. И ведь эта чепуха во всех учебниках написана, что в результате повторения мы делаем все лучше и лучше. Вы понимаете, что это невозможно?... Сократ в свое время спрашивал: как ученый ищет новое знание? Если он знает, то это не новое. А если новое, то что он ищет? Я специально так готовлю вас к постановке проблемы, чтобы вы понимали, что мы вообще ни черта не понимаем. Хочу заметить, что когда многие из вас обучались, писали квалификационные работы и в этих работах всегда есть первая глава, которую называют теоретической. Она никакого отношения к теориям вообще не имеет. Обычно как делается: берем литературу по теме и переписываем, что говорят по этому поводу разные авторы. Причем, поскольку разные авторы говорят абсолютно разные вещи, мы аккуратно переписываем эти разные вещи. А потом делаем что-то, независимо от этого. Это бессмысленная работа. Можно переписывать разных авторов, но если вы к ним относитесь, то есть, вы говорите: «Вот это – ерунда, а вот с этим – я согласен». Тогда еще туда-сюда…
В итоге какая ситуация складывается в психологии? Два ключевых слова, которыми занимается психология, куда бы мы ни делись, это слова «психика» и «сознание». Хотите, добавим еще другие слова, вроде «личности», но мы же не знаем, о чем говорим. Мы не понимаем ни что такое «психика», ни что такое «сознание», ни что такое «личность».
Лет десять назад меня пригласили на какой-то профессиональный форум, чтобы я отвечал на вопросы о сознании. И я был абсолютно удивлен, что очень многие авторы этого форума мне выдавали такие марксистские определения сознания «сознание связано с высокоорганизованной материей, которая адекватно отражает действительность». Что такое высокоорганизованная материя – я не знаю. Как отражает? И, главное, причем здесь сознание?
За 10 лет ситуация изменилась. Я сейчас смотрю словари, справочники. Очень интересная динамика: сейчас все пишут уже честно, что никто не знает, что такое сознание. Кто-то определяет сознание как бодрствование, кто-то – как возможность доступа к информации, кто-то – как нечто вербализуемое. Я могу продолжать дальше перечень разных взглядов, которые несовместимы друг с другом… Полный хаос. С «психикой» еще лучше – это что-то, похожее на сознание, только не сознание вовсе…»


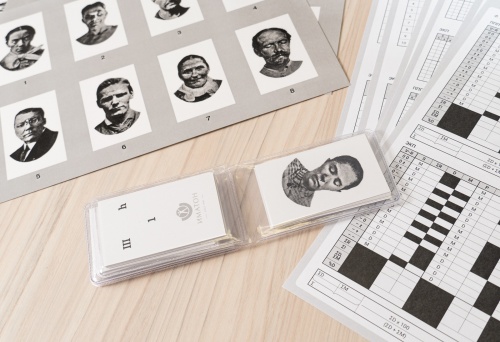






















































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать