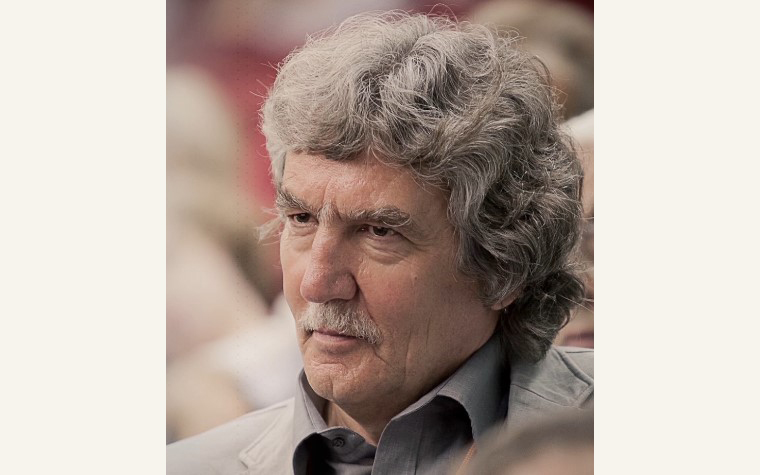
Эпистемологические препятствия к пониманию феномена Чуда
Итак, с учетом всего сказанного в предыдущих разделах нашего текста, основными эпистемологическими препятствиями на пути к пониманию и осмысленному воспроизведению феномена Чуда являются:
- неадекватная система фундаментальных допущений, являющаяся «идейным стержнем» доминирующей в настоящее время эпистемологической платформы, на которой базируется и система кодифицированных научных знаний, и корпус науки в целом;
- не состоявшийся в данной связи ареал авангардной науки (в отсутствии авангардного сектора наук о психике никакие новации в полюсе естественных наук и соответствующие претензии на эту роль не могут быть признанными);
- отсутствие адекватных концепций и теорий психического, аргументирующих внятные объяснительные модели феномена Чуда;
- непонимание сущностных механизмов процесса осмысленной генерации необходимых изменений в системе взаимодействия дифференцированных статусов сверхсложной категории объемной реальности с характеристиками Чуда.
Продвижение по всем вышеприведенным позициям, соответственно, позволит сформировать внятную перспективу («дорожную карту») решения главных проблем Новейшего времени.
Но вначале поговорим о каждом эпистемологическом препятствии отдельно, ибо если мы ошибемся с «камнем преткновения», то и с «краеугольным камнем» достойного завершения эпопеи расколотого бытия у нас вряд ли сложится.
Истоки и суть ограничительной системы фундаментальных допущений
Основы фундаментальных допущений, в системе которых и поныне развивается наука, были сформулированы величайшим мыслителем Иммануилом Кантом в конце XVIII века, т.е. около двухсот пятидесяти лет назад, и сам по себе этот факт говорит о многом. На примере того, как фрагментарно воспринимались философские построения Канта в эпоху Нового и даже Новейшего времени, можно проследить формирование «слепых пятен», препятствующих становлению авангардных наук, в том числе наук о психике, способных генерировать внятные объяснительные модели исследуемого нами феномена Чуда.
В своем эпохальном труде «Критика чистого разума» (1781) Кант постулировал окончательный и, казалось бы, бесповоротный вывод категории Духа из предметной сферы принципиально познаваемого, а потому — научного опыта. Аргументы, представленные здесь Кантом, более чем убедительны:
- понятие духа не попадает под априорный закон причинности, т.е. никакой системы априорного — понятного разуму — знания о духе построить в принципе невозможно;
- во внутреннем чувстве — перцепции, апперцепции и тем более феномене «Я», который вообще не сводим к внутреннему чувству — нет аналога материи, которая является субстратом классического естествознания;
- понятие духа также «выпадает» из формата чистых, по Канту, трансцендентальных условий получения какого-либо опыта: категорий пространства и времени (т.е. в известном нам пространственно-временном континууме такого «объекта» познания попросту не существует);
- следовательно, такие категории, как Бог, дух, и вопрос о бессмертии души отходят в сферу трансцендентного, т.е. принципиально не проявляемого в категориях чистого разума статуса (И. Кант, цит. по изд. 1993).
Но далее в своих трудах «Критика практического разума» (1788), «Критика способности к суждению» (1790) Кант говорит о том, что познание психического может осуществляться не только эмпирическим — опытным путем и представлять таким образом обособленный раздел прагматической антропологии, но также этот познавательный процесс может и выступать в виде некоего аналога естествознания, в смысле использования метода самонаблюдения и научной интерпретации информации о феномене «внутреннего чувства», феномене «Я». Следовательно — и это очень важная констатация в процитированных трудах Канта — познание психического может представлять собой раздел трансцендентальной философии, исследующей фундаментальные и прикладные познавательные способности человека, в частности — способности конструировать условия опыта до появления самого опыта. Видимо, это обстоятельство Кант и имел в виду, когда говорил о новой науке — подлинной метафизике, которая, по его мнению, еще только должна появиться. И только с позиции этой абсолютно новой науки, по мысли Канта, и можно искать адекватные объяснения сложнейшего феномена априорного синтеза непосредственно данного нам актуального плана реальности (И. Кант, цит. по изд. 1993, 1994, 2015). Но именно этот «завет» Канта так и не был по- настоящему услышан и тем более воплощен в осмысленных действиях по формированию обновленной эпистемологической платформы (т.е. «подлинной метафизики»), а затем и подлинного фронта авангардных наук.
И теперь более подробно о контурах вот этого «слепого пятна». Сделав первый и самый главный шаг к установлению сущностной взаимосвязи между статусом субъекта, объекта и непроявленным статусом объемной реальности (предикация задаваемых форматов категории времени и пространства статусу субъекта (!), сделав и второй важнейший шаг в этом же направлении (акцент на фундаментальные, трансцендентальные, по Канту, познавательные способности человека), — великий философ так и не сделал завершающего третьего шага к созданию этой новой науки. Условия проявления трансцендентного — категорий души, духа, Бога — в форматах, понятных чистому разуму (например, за счет привносимой трансцендентальной пластики субъективных категорий времени и пространства), Кантом так и не были сформулированы и должным образом обоснованы. Трансцендентная сущность понятия души и эмпирическое (прагматическое) содержание понятия психики оказались разделенными на столетия. А с учетом мощного влияния на умы исследователей, которое оказывала философия еще в самом начале эпохи Нового времени, и принимая во внимание почти безграничный авторитет самого Иммануила Канта, — сложившаяся информационная матрица в отношении понимания категорий духа, души и психики регулярно воспроизводилась и продолжает воспроизводиться в общем корпусе науки. И в частности, и особенно — в секторе наук о психике, вследствие чего исследователи сферы психического, даже и такие, как У. Джеймс, Л.С. Выготский, столетиями упирались в одну и ту же стену отсутствия сущностного понимания истоков кризисного состояния системы рационального знания, сущностного же понимания рецептов преодоления этого фундаментального кризиса, по большей части прописанных в трудах величайшего мыслителя эпохи Нового времени Иммануила Канта.
И далее, в связи со спецификой предмета нашего исследования, необходимо еще раз внимательно присмотреться к наиболее часто цитируемому пассажу из произведения «Критики практического разума», который как нельзя лучше показывает, что именно Кант считал подлинным Чудом и как же это Чудо оказалось «законсервированным» на столетия.
Процитируем этот фрагмент целиком, ибо комментарии к главному тезису в данном случае имеют более важное значение, чем даже сама констатация: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее размышляю о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. И то и другое мне нет надобности искать и только предполагать как нечто окутанное мраком или лежащее за пределами моего кругозора; я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего существования. Первое начинается с того места, которое я занимаю во внешнем чувственно воспринимаемом мире, и в необозримую даль расширяет связь, в которой я нахожусь, с мирами над мирами и системами систем, в безграничном времени их периодического движения, их начала и продолжительности. Второй начинается с моей невидимой самости (Selbst), с моей личности, и представляет меня в мире, который поистине бесконечен, но который ощущается только рассудком и с которым (а через него и со всеми видимыми мирами) я познаю себя не только в случайной связи, как там, а во всеобщей и необходимой связи. Первый взгляд на бесчисленное множество миров как бы уничтожает мое значение как животной твари, которая снова должна отдать планете (только точке во Вселенной) ту материю, из которой она возникла, после того как эта материя короткое время неизвестно каким образом была наделена жизненной силой. Второй, напротив, бесконечно возвышает мою ценность как интеллигенции через мою личность, в которой моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животной природы и даже всего чувственно воспринимаемого мира, по крайней мере поскольку это можно видеть из целесообразности назначения моего существования через этот закон, которое не ограничено условиями и границами этой жизни, но идет в бесконечное» (И. Кант, цит. по изд. 2016). Т.е. нам здесь показывают «развилку», перед которой стояла наука во времена Канта (она стоит там и поныне), и направление, которое раз за разом выбирают впередсмотрящие лидеры.
Чуть забегая вперед, мы бы сказали, что в данном фрагменте Кант в первую очередь говорит о выборе метапозиции бытия-в-мире, стоящем и перед наукой, и перед каждым человеком, — или в пользу узкого сектора так называемой объективной реальности, где субъект с его ограниченным периодом жизни теряется в линейно понимаемом пространстве и времени; либо выбор делается в пользу сущностного концепта объемной реальности, где человек является «равноправной» стороной творимых планов реальности, со-творцом грандиозного темпорального кругооборота этих планов, включая и полюс вечного-бесконечного. И уже одно то, как часто здесь Кант употребляет термин «бесконечность» и связывает именно эту характеристику категории объемной реальности с осознанием всеобщей и необходимой связи человека с миром, «звездного неба» с «моральным законом», убеждает нас в том, что Кант прозревал и идею темпоральной пластики психического, с использованием которой и появляется возможность развития той самой новой науки, о которой он говорил с уверенностью и вдохновением.
И уж, конечно, мы будем продвигаться именно по этому, освещенному Кантом, пути.
Что же касается «торной» эпистемологической дороги, по которой продолжает двигаться наука и ее будто бы авангардный сектор, и который выбивает из-под растерянных людей их последнюю опору утверждениями в том духе, что «все на свете — это волны и заряды», то против такого способа интерпретации реальности резко возражал Мартин Хайдеггер в своём знаменитом произведении «Что зовется мышлением?» (1976). В частности, он использует яркую метафору конфликта модели реального, принятой в полюсе естественных наук, с тем планом реальности, который воспринимает каждый живущий человек: «К чему такие вопросы о деле, относительно которого каждый справедливо соглашается, что оно, мол, ясно всему миру как день — то, что мы на земле, а в данном избранном примере стоим напротив дерева. Но не будем слишком поспешны с такими допущениями, не будем принимать эту ясность слишком легко. Мы сразу же отказываемся от всего, лишь только нам такие науки, как физика, физиология и психология с научной философией, со всей их оснащённостью примерами и доказательностью объясняют, что мы, собственно, не видим дерева, а в действительности воспринимаем некую пустоту, в которой определённым образом рассеяны электрические заряды, мчащиеся с великой скоростью туда и сюда… Откуда берут эти науки полномочия на такие суждения? Откуда берут эти науки право определять местоположение человека, а себя приводить в качестве мерила этого определения?.. Но мы сегодня склонны скорее повалить цветущее дерево, чем отказаться от наших якобы более ценных физических и физиологических знаний».
То есть перед нами яркий пример когнитивного диссонанса «поваленного дерева», присутствующего в самой основе доминирующей эпистемологической платформы и никак не решаемого с помощью традиционной исследовательской методологии, инструментов анализа, в свою очередь основанных на искаженной системе репрезентации исследуемых аспектов реальности.
Понятно, что из этого «кругового движения» необходимо выбираться. Но какие же «точки опоры» помогают нам не тонуть в море деталей и фактов. В качестве таких первичных информационных «генов», на которых выстраиваются «тела» исследовательской методологии, научных направлений и конкретных наук, немецкий философ Карл Мангейм в своей докторской диссертации «Структурный анализ эпистемологии» (1922) предлагал термин «базисные предпосылки, используемые эталоны логических построений, на основании которых выводится система знаний». Французский философ Мишель Фуко предлагал короткий и емкий термин «эпистема» («Археологии знания», 1969). Гастон Башляр в своих ранних публикациях («Прикладной» рационализм», 1949; «Рациональный материализм, 1953) обосновывал понятия эпистемологического профиля, эпистемологических препятствий и эпистемологических актов. Эпистемологические препятствия, по Башляру, порождаются любым некритически усвоенным или утратившем критичность по отношению к себе знанием. Специалист-эпистемолог видит в них «тупики», или «ловушки», в которые могут попасть неискушенные исследователи, но также и «точки» возможного инновационного прорыва. Под эпистемологическими профилями Башляр понимал целостные типы порожденных научным разумом и соотнесенных с определенной культурой рациональностей. Такие профили «замкнуты на себя», соотносятся по принципу взаимодополнения (предполагают, как минимум, возможность друг друга). Появление новых типов рациональности соответствует «оси развития знания». На основе рекурсивно-исторического анализа сектора естественных наук Башляр сконструировал пять основных эпистемологических профилей: наивного реализма (донаучное физическое знание); позитивистского толка эмпиризма (доньютоновская опытная физика); классического рационализма (ньютоновская механика); полного рационализма (теория относительности А. Эйнштейна); дискурсивного или диалектического рационализма (релятивистская квантовая механика П. Дирака). Попутно заметим, что в гуманитарном секторе наук каких-то своих эпистемологических профилей выведено так и не было.
Всего этого оказалось недостаточно для сущностного решения проблематики в сфере разработки адекватных объяснительных моделей чудесного. Более того, на основании проведенного эпистемологического анализа можно утверждать, что вышеприведенные эпистемологические концепты сами не свободны от скрытых ограничений.
Так, например, все сформулированные Башляром типы рациональности и выведенную им «ось развития знания» можно обозначить общим смысловым вектором «логос». Другой, конкурирующий с «логосом», вектор или способ получения знаний, доминировавший в интеллектуальной истории развития человека вплоть до эпохи Нового времени, который обозначается как «гнозис», вплоть до настоящего времени оставался вне сферы внимания специалистов из области науки. Абсолютно необходимые в данном случае реконструкции, расширение и углубление семантического поля рассматриваемого понятия не проводились, тем более не исследовались модели реальности, получаемые за счет использования именно такого способа познания.
В связи со всем этим нами был разработан концепт принципиально новой эпистемологической платформы, идея которой была выведена из признаков доминирования, диссоциации-ассоциации ранее обозначенных «больших» познавательных векторов «логоса» и «гнозиса». И далее была обоснована оригинальная историографическая типология эпистемологических платформ: «недифференцированная» — по признаку стихийно сложившегося приоритета гностического познавательного вектора (не выделяемого в качестве такового, содержащего «примеси» восходящего логоса и проч.), этот вектор доминировал в донаучную эпоху; «диссоциированная» — по признаку декларируемого приоритета логического познавательного вектора, конфликта между двумя базисными познавательными векторами; «ассоциированная» — на основании обоснованной в концепции «объемной реальности» конструктивной синергии базисных познавательных векторов (об этой последней эпистемологической платформе мы поговорим позже).
Ключевой стержень — фундаментальные допущения недифференцированной эпистемологической платформы в своем первозданном виде могут быть представлены следующими тезисами (и, соответственно, объяснительными моделями чудесного):
- мир одушевлен, и во всех зримых проявлениях реальности присутствует доля квинтэссенции мирового духа;
- мир, таким образом, объединен (разделен лишь условно), и все предметные проявления реальности — вещи — взаимодействуют по законам симпатии;
- используя эти принципы симпатии — тайной взаимосвязи, — можно добиться желаемого чудесного воздействия на процессы и состояния субъектов и даже «объектов» реальности;
- носителями этих сакральных (тайных, непередаваемых) знаний и способностей могут быть только лишь представители особого сословия, отмечаемые богами или духами.
Показательным является факт последующей трансформации вышеприведенных тезисов в следующую систему базисных допущений, в еще большей степени ограничивающих поле исследовательской активности в том, что касается темпоральных характеристик сложной категории объемной реальности:
- мир существует по воле Бога;
- рациональный способ познания трансцендентной сущности Бога невозможен;
- следовательно, устанавливается примат Веры как основного инструмента приобщения человека к божественной, непознаваемой сущности;
- Бог творит чудеса через Веру (по вере дано будет вам).
И если магическая система мировоззрения еще оставляла какие-то шансы на исследование различных типов рациональности, с использованием которых возможно было выстраивать адекватные объяснительные модели объемной реальности, то жесткие религиозные догматы таких шансов практически не оставляли. Что же касается феномена Веры, то, как показывают результаты исследования множества исторических источников, отцы церкви всеми силами пытались «отодвинуть» концепт веры от такого способа познания объемной реальности, как «гнозис».
Для сформированной в эпоху позднего Средневековья диссоциированной эпистемологической платформы, постулирующей принципы организации корпуса науки и разделения сфер компетенции религии и науки, во-первых, были присущи следующие отличительные признаки:
- чёткое разграничение предметной сферы для каждой дифференцируемой ветви адаптивного опыта, особенно науки и религии;
- оформление фундаментальных правил (допущений), лежащих в основе такого разграничения;
- организация институтов, строго контролирующих следование данным установлениям и отсекающих «ересь» на всех этапах её производства как в сфере религии, так и в области науки;
- продолжающееся существование прерванной традиции со всеми признаками стагнации и вырождения (карикатура, фарс), но и с ясными свидетельствами того, что даже и эти «усеченные» фрагменты исторической памяти могут вновь набирать силу при наличии тупиковой ситуации в легализованных магистралях социального опыта;
- импульсивные попытки генерации фрагментов будущей эпистемологической платформы, преодолевающих принципиальные ограничения предметного поля доминирующей системы фундаментальных допущений, в рамках которой функционирует современная наука (такие попытки «замирали» на корню).
А во-вторых, диссоциированная эпистемологическая платформа генерировала систему фундаментальных допущений собственно научной сферы, на которой и базируются используемые в корпусе науки модели рациональности:
- существует объективно-автономный мир (объективная реальность), независимый от нашего сознания;
- существуют общие для автономной (объективной) реальности закономерности явлений и событий;
- эти закономерности доступны для измерения, исследования и выведения объективных констант, характеризующих автономную (объективную) реальность.
Согласно приведённой системе фундаментальных допущений — всё то, что выводится за пределы измеряемой реальности, не является предметом науки, а значит, и воспроизводимого опыта. Соответственно, те дисциплины, которые не могли привести доказательства объектности и принципиальной измеряемости своей предметной сферы, объявлялись «умозрительными» и изгонялись из пантеона научных. Феномен Божественного Чуда был отправлен в пыльный исторический архив респектабельной науки «без права помилования». Однако с этого времени состав «судебного корпуса» несколько изменился. И кроме того, вот этот упрямый феномен раз за разом, будто бы из небытия, вызывал адвокатов — прецедентов, намекавших на то, что архивы пора открывать.
Ограничения в системе фундаментальных допущений наук о психике
Итак, если предположить, что психическое — это подлинное вместилище Духа, инструмент генерации пластичного времени (а значит, и реальности), передачи сигнала-молитвы о необходимости совершения Чуда, прямой со-участник и свидетель свершения Чудесного, то располагаем ли мы системой знаний, а значит, и соответствующими технологиями (объяснительными моделями) использования этих знаний? Очевидно, что нет. И даже высказываемые здесь гипотезы — «нелигитимная ересь» с позиции эпистемологических установок, доминирующих в общем корпусе науки и, конечно, в секторе наук о психике.
С учетом вышесказанного, во всем этом ничего странного нет. Но как же могло случиться, что именно сектор наук о психике, при всей очевидной важности и необходимости его ускоренной разработки, оказался наиболее ригидным и невосприимчивым к сигналам Чуда «с той стороны»? И почему дело дошло до того, что инновационными моделями активности психического (в данном конкретном случае — феноменом активности сознания) стали заниматься представители авангардной физической науки, в том числе Роджер Пенроуз, лауреат Нобелевской премии по физике? Почему именно он, а, скажем, не представитель когнитивной психологии, говорит нам о том, что: «В самом деле, есть нечто весьма странное в том, как время входит в наше сознательное восприятие. И я думаю, что для интерпретации этого феномена в рамках наших традиционных представлений может понадобиться совсем другая концепция. Сознание — это, в конце концов, единственное явление, согласно которому время “течёт”» (Р. Пенроуз, 2011)? Почему теоретические построения замечательного русского философа Сергея Алексеевича Аскольдова (1922), обосновывающего прямую зависимость картины мира — того, что называют «объективной реальностью» — от совпадения диапазона «настоящего» у представителей этого мира, имеющих возможность переживать этот момент синхронно, остаются вне всякого внимания исследователей психического? А ведь именно Аскольдов утверждал, что так называемая область материальных изменений (т.е. динамические характеристики «объективной» реальности) теряет всякое значение «если отмыслить от неё сознание наблюдающего субъекта». То есть «объективная» реальность «схлопывается», а что вместо этого? И почему современные суперкомпьютеры не исследуют идею о том, что «объективная» реальность — это лишь общий сон бодрствующего сознания? А тогда что же есть «настоящая» реальность, и не она ли стучится в этот общий сон такими же настоящими Чудесами? И тогда как «проснуться», чтобы уже не засыпать? Нам очень важно разобраться и с этими «локальными» эпистемологическими препятствиями, ибо Дорожная карта путешествия к чудесной и настоящей реальности, как понятно из сказанного, начинается и продолжается в поле психического.
Выдающийся русский философ Семен Людвигович Франк в своем известном произведении с говорящим названием «Непостижимое» (раздел «дух» и «душа») задает такие вопросы: «Принадлежит ли “дух” ко мне, или он только принадлежит мне наподобие всего другого, чему я могу быть только причастен? Или, быть может, мы должны сказать, что то и другое имеет силу одновременно, что я имею, с одной стороны, начало “духа” как элемент моей душевной жизни, и с другой стороны — через него соприкасаюсь с духовными реальностями, выходящими за пределы моего “Я”?» (Л.С. Франк, цит. по изд. 1990). «То есть мой дух, — говорит нам Франк, — это в каком-то смысле и мой Бог».
В этом же смысле примечательны выведенные Л.С. Франком уровни душевной жизни — души как начала жизни, души как носителя знаний, исходящих из «непостижимых глубин бытия», души как носителя формы и стадий сознания.
С учетом ключевых, по Франку, характеристик души — «непротяженность», «непространственность», «невременность», «нелокальность», — выведенные им уровни функциональной активности приводят к тому, что рассматриваемая «часть» психического имеет самое непосредственное отношение к процессу генерации импульсной активности сознания-времени, а также и к пониманию того важнейшего обстоятельства, что именно за счет пластических возможностей по оформлению такой импульсной активности инстанция «души» может обеспечивать доступ к беспрецедентным информационным архивам «глубин бытия». То есть — в нашей интерпретации — выполнять посредническую миссию между идентифицированными статусами сложной категории объемной реальности. Однако у самого Франка вот этот необходимый в данном случае темпоральный аспект организации сложного взаимодействия субъектного, объектного и непроявленного статусов объемной реальности разработан так и не был в силу вполне понятных причин — отсутствия адекватного эпистемологического и методологического инструментария.
Об ограниченных возможностях современной ему психологической науки исчерпывающим образом высказывался один из основоположников этой науки, известный ученый Уильям Джеймс: «Психология имеет дело только с теми и другими состояниями сознания. Доказывать существование души — дело метафизики или богословия» (У. Джеймс, цит. по изд. 2011). Между тем, сам Джеймс был далек от того, чтобы признавать такой подход идеальным. Об этом, в частности, говорят следующие фрагменты цитируемой работы: «Психология как естественная наука рассматривает явления с односторонней и временно-условной точки зрения... Если критические умы найдут такую естественную точку зрения произвольно суживающей взгляд на вещи, то они не должны ставить это в упрек позиции, рассматривающей явления именно с этой точки зрения: скорее, им следует дополнить односторонние взгляды более глубоким анализом мысли».
О сложном феномене сознания и его роли в репрезентации реальности Джеймс писал следующее: «Наше нормальное или, как мы его называем, разумное сознание представляет лишь одну из форм сознания, причем другие, совершенно от него отличные формы сосуществуют рядом с ним, отделенные от него лишь тонкой перегородкой. Мы можем совершать наш жизненный путь, даже и не подозревая об их существовании, но как только будет применен необходимый для их пробуждения стимул, они сразу оживут для нас, представляя готовые определенные формы духовной жизни, которые, быть может, имеют где-нибудь свою область применения. Наше представление о мире не может быть законченным, если мы не примем во внимание и эти формы сознания. Из них, правда, нельзя вывести точной формулы, и они не могут дать нам планы новой области, которые они перед нами раскрывают, но несомненно, что должны помешать слишком поспешным заключениям о пределах реального» (W. James, 1920). В процитированном фрагменте Джеймс практически ранжирует состояния сознания и подводит нас к идее, что каждый такой очерченный статус сознания есть фокус репрезентации реального и что такой фокус, как и панорама (актуальный план) получаемой в этом случае реальности, могут быть весьма различными.
Здесь же Джеймс указывает и на технологическую основу так называемых духовных практик, и ключевой момент такой основы — обнаружение побуждающего стимула для «включения» подвижной когнитивной оптики, которая и ведет адепта в сторону открывающейся таким образом перспективы объемной реальности. При этом он выделял четыре главные характеристики, которые служили критерием для различения собственно мистических переживаний: неизреченность (невозможность изложить собственные ощущения и впечатления на обычном «посюстороннем» языке; интуитивность (проникновение в глубинные истины, отличные от обыденного опыта, состояния откровения, моменты внутреннего просветления); кратковременность (мистические состояния, озарения не имеют длительного характера, время внутри экстатических переживаний вообще протекает иначе); бездеятельность воли (ощущение паралича собственной воли и власти высшей силы). Таким образом, по Джеймсу, речь идет о расширении возможности человека к непосредственному общению со сверхъестественным началом, возможности сверхопытного, сверхчувственного познания; о совокупности явлений и действий, которые каким-то образом связывают человека с тайным существом, непостижимыми силами мира, независимо от условий пространства, времени и физической причинности (У. Джеймс, цит. по изд. 1993). Или же, говоря прямым текстом, о необходимости всемерного развития и, соответственно, углубленного исследования такого способа познания реальности, как «гнозис» (авт.).
Сам Джеймс считал, что полная истина об этих состояниях сознания и получаемой таким образом информации станет известной только тогда, когда сама по себе теория познания и науки о психике скажут свое последнее слово. «Тем временем о них можно собирать массу условных истин, которые с неизбежностью войдут в состав более широкой истины, когда для этого наступит срок» (У. Джеймс, цит. по изд. 2011). Примечательно, что вот такие грядущие науки о психике Джеймс обозначал как подлинно рациональные (в отличие от эмпирических, на уровне которых, собственно, и забуксовал «научный» способ репрезентации и осмысления феноменов психического. — авт.).
Что же касается существующей во времена Джеймса науке о психике, то здесь он говорил так: «Называя психологию естественной наукой, мы хотим сказать, что она в настоящее время представляет просто совокупность отрывочных эмпирических данных; что в ее пределы отовсюду неудержимо вторгается философский критицизм и что коренные основы этой психологии, ее первичные данные должны быть обследованы с более широкой точки зрения и представлены в совершенно новом свете... Даже основные элементы и факторы в области душевных явлений не установлены с надлежащей точностью. Что представляет собой психология в данную минуту? Кучу сырого фактического материала, порядочную разноголосицу во мнениях, ряд слабых попыток классификации и эмпирических обобщений чисто описательного характера, глубоко укоренившийся предрассудок, будто мы обладаем состояниями сознания, а мозг наш обусловливает их существование, но в психологии нет ни одного закона в том смысле, в каком мы употребляем это слово в области физических явлений, ни одного положения, из которого могли бы быть выведены следствия дедуктивным путем. Нам неизвестны даже те факторы, между которыми могли бы быть установлены отношения в виде элементарных психических актов. Короче, психология еще не наука, это нечто, обещающее в будущем стать наукой» (У. Джеймс, 1890). По авторитетному свидетельству Л.С. Выготского (1927), все здесь сказанное есть наиболее полный и точный анализ положения дел в психологической науке по прошествии десятилетий, а по заключению известного историографа психологии Д.Н. Робинсона (2005), — и по настоящее время. Поэтому и нет ничего удивительного в том, что все последующие описания системного кризиса в психологии в той или иной степени воспроизводили фрагменты критического анализа, данного Джеймсом.
Еще одним свидетельством понимания ключевых функций психического в репрезентации реальности во всех ее аспектах, в частности и особенно в интересующем нас аспекте чудесного, является эпохальный труд Эдуарда фон Гартмана «Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного» (1869). Этот достойный труд Эдуарда фон Гартмана на рубеже XIX–XX веков и поныне вспоминают достаточно редко по тем же самым причинам: в продолжение ста с лишним лет так и не было разработано удовлетворительного научного (эпистемологического) и методологического контента, позволяющего выстраивать обоснованные суждения о значимости выдвигаемых Гартманом идей. В том числе — идей в области метафизики бессознательного.
Необходимо сказать несколько слов о главных тезисах основного труда Гартмана. Здесь он впервые определил и сформулировал, как бы мы сейчас сказали, системные характеристики феномена бессознательного и обозначил перспективы использования данного понятия во всех областях человеческого знания и опыта. И вот именно этот системный подход (по крайней мере, его элементы) в исследовании феномена бессознательного и позволил Гартману весьма интересным образом «состыковать» разноуровневые процессы и функции, выполняемые, по данным проведенного им анализа, при деятельном участии рассматриваемой инстанции психического. Причем сам Гартман, с учетом определенных им поистине потрясающих масштабов такой и скрытой, и явной активности, считал термин «бессознательное» неадекватным и неправильным. И он был первым, кто предложил и внятно аргументировал использование термина «сверхсознательное» для обозначения обсуждаемой здесь сущности. Подписываемся под каждым словом этого предложения.
Многие из общих контуров концептуального подхода Гартмана, так или иначе созвучные идеям Шопенгауэра, мы здесь опускаем и сразу же сосредотачиваемся на содержательных характеристиках выделенных им функциональных уровней бессознательного. Итак, бессознательное, по Гартману, обеспечивает феномен жизни; сохраняет роды посредством полового влечения и материнской любви, облагораживает их посредством выбора в половой любви; даёт в инстинкте каждому существу то, в чём оно нуждается для своего сохранения и для чего недостаточно его сознательного мышления; образует и сохраняет организм, исправляет внутренние и внешние его повреждения; целемерно направляет движения организма и обусловливает его употребление для сознательной воли; часто управляет человеческими действиями посредством чувств и предчувствий там, где им не могло бы помочь полное сознательное мышление; своими «внушениями» в малом, как и в великом, способствует сознательному процессу мышления; одаряет людей чувством красоты и художественным творчеством; ведёт человека в мистике к предощущению высших сверхъестественных единств; ведёт род человеческий в истории неуклонно к цели его возможного совершенства.
Бессознательное, согласно Гартману, характеризуется еще и следующими свойствами: безболезненностью, неутомимостью, нечувственным характером его мышления, безвременностью, непогрешимостью, неизменностью и неразрывным внутренним единством. Словом, перед нами сверхразумным способом организованная инстанция, которая, будучи вне времени, но развертываемая в пластических форматах времени, собственно, и являет собой «сущность мирового процесса» становления сложнейшей категории реальности. Именно эта сверхинстанция психического осуществляет прорывы в «настоящую» реальность и генерирует (или же стимулирует) проблески подлинных чудес в нашей с вами жизни.
Мы бы сказали, что в этих тезисах Гартмана высвечивается и некий намек на возможность управления «мировым процессом» с использованием разных параметров форматирования актуальных планов реальности, в том числе и таких, которые выходят за пределы продолжительности человеческой жизни. И тогда встает вопрос: а где, собственно, границы психического-целого? И правильно ли здесь говорить о каких-то пространственных границах или все же стоит призадуматься о темпоральных границах психического и начинать всерьез разрабатывать концепт темпоральной генетики сложной категории реальности? И есть все основания полагать, что Гартман в своем основном произведении как раз и продвигался по этому пути. Но ему не хватило все того же — адекватного сложности рассматриваемой им проблематики эпистемологического и методологического инструментария.
Что же касается степени сложности решаемых Гартманом эпистемологических задач, то он ясно сформулировал «убийственную для всякого разума и для всякой философии проблему: «Что такое предсуществующее (subsistens) всякого существования, ничего не может сказать ни одна философия — эта первоначальная проблема неразрешима по своей природе... Это настоящий пробный камень, дарованный метафизическому познанию» (Э. Гартман, цит. по изд. 2016). Но мы-то как раз и собираемся поднять и трансформировать этот камень преткновения в искомый Эдуардом фон Гартманом — мужественным человеком и талантливым ученым — краеугольный камень Новой истины.
И далее можно только лишь удивляться тому, что великий Зигмунд Фрейд, которого профессиональное и научное сообщество превозносит за актуализацию и привнесение темы бессознательного в поле медицины, психологии и психотерапии, вот этого краеугольного камня как раз не искал, но всеми силами его закапывал. Религию он считал одной из форм коллективного невроза, и там, где только можно, он настаивал на контрпродуктивности такого способа адаптации. В очной и заочной полемике с богословами он говорил о том, что его бог Логос, кажется, не так уж всемогущ (как, например, Бог религиозных адептов. — авт.), он может исполнить только часть того, что обещали его предшественники. И если приверженцам Логоса придется в этом убедиться, то они смиренно примут положение вещей. Интерес к миру и жизни они от того не утратят, ведь у них есть в одном отношении (т.е. в реальности. — авт.) твердая опора, которой не хватает верующим. Заметим, что с годами вот эта «твердая опора» рациональных знаний, о которой с уверенностью говорил Зигмунд Фрейд, вдруг стала весьма шаткой.
В одной из своих поздних работ «Будущее одной иллюзии» (впервые данная работа была опубликованной в 1927 году, т.е. за двенадцать лет до смерти автора) Фрейд последовательно и обстоятельно аргументирует свою приверженность к научной трактовке любых, в том числе «чудесных», феноменов. Полемизируя с представителями института религии, Фрейд, в частности, говорил: «Мы верим в то, что наука в труде и исканиях способна узнать многое о реальности мира, благодаря чему мы станем сильнее и сможем устроить свою жизнь. Если эта вера — иллюзия, то мы в одинаковом положении с вами, однако наука своими многочисленными и плодотворными успехами дала нам доказательство того, что она не иллюзия» (З. Фрейд, цит. по изд. 1989).
Фрейд совершенно определенно заявлял: «Идеальным было бы, конечно, общество людей, подчинивших свою инстинктивную жизнь диктатуре разума» (S. Freud, цит. по изд. 1973).
Что же касается главного тезиса психоанализа «Там, где было Оно, должно стать Я (т.е. приоритетная, по мысли Фрейда, осознаваемая инстанция психического. — авт.)», то цепкий и внимательный критик великого автора психоанализа Карл Густав Юнг абсолютно верно замечал, что при неукоснительном соблюдении вот этого превозносимого тезиса невозможно избежать повторного вытеснения активности бессознательного, со всеми выводимыми отсюда негативными последствиями.
Тем не менее, позиция Фрейда привлекательна прежде всего тем, что еще задолго до пришествия постмодернистских эпистемологических установок в «большую» науку он ясно сформулировал главный тезис о том, что обсуждать здесь можно лишь гипотезы, и решающим фактором в этой полемике является доказательная сила предъявляемых аргументов. И если Фрейду, как он утверждает, есть что предъявить в качестве доказательств своей правоты, а его оппоненты способны лишь на то, чтобы повторять расхожие догмы, то в активе у него имеется знание-вера, в то время как у противоборствующей стороны только лишь вера. С этим невозможно не согласиться. Однако система знаний и эпистемологическая платформа, на которую опирался и Фрейд, и его последователи, в принципе не были приспособлены для открытия полномасштабного потенциала психического, о котором говорил Гартман. В частности, у яростного приверженца Логоса Зигмунда Фрейда даже и мысли не возникало в отношении того, что именно феномены Веры и Чуда могут быть предметом углубленного научного исследования, а не признаками невротического состояния человека и общества (коллективный религиозный невроз).
Следом необходимо обратиться и к некоторым трудам проницательного критика психоанализа Карла Густава Юнга, в которых исследуются глубинные корни перманентного кризиса психологической науки. Однако и здесь мы обнаруживаем лишь догадки о безграничном потенциале психического (в этом смысле он разительно отличался от своего учителя Фрейда) и скорбные признания интеллектуального бессилия психологической науки.
В частности, Юнг писал следующее: «Коль скоро мы всерьёз рассматриваем гипотезу о бессознательном, следует сделать вывод, что наша картина мира не может иметь законченный характер, ибо, если мы привносим столько радикальных изменений в субъект восприятия и познания, как предполагают, мы должны прийти к видению мира, весьма отличного от того, что мы знали ранее. Даже если бы речь шла о перенесении в эго-сознание одних лишь восприятий, мы получили бы возможность невероятного расширения границ ментального горизонта» (К.Г. Юнг, 1954).
Понимая необходимость углубленного и масштабного исследования потенциала психического, без чего о какой-либо дееспособной науке в рассматриваемой сфере не может быть и речи, Юнг также понимал и «неподъемную» сложность этого предприятия. Эту, в первую очередь эпистемологическую сложность он видел в том, что «... в секторе официальной науки существует устойчивое представление о том, что какого-либо объективного метода исследования предметного поля понятий «души» и «духа» (смутных и неопределенных, в частности, и по этой причине) на сегодняшний день не существует. И что «душу можно наблюдать только с помощью души». И далее Юнг говорит о том, что доступная феноменологическая точка зрения на то, что существуют душа, дух и феномен веры, основанный на некоем субъективном опыте, не оспаривает их возможной значимости. «Однако психология не имеет достаточно средств, чтобы доказать их значимость в научном смысле» (К. Г. Юнг, цит. по изд. 1996). В еще более откровенном и резком ключе он продолжает: «Систематика психического вследствие всего этого (неопределенности предметной сферы. — авт.) ... лежит вне пределов досягаемости человека, и поэтому все, чем мы в этом смысле обладаем, есть лишь кустарные правила да аспекты интересов» (К. Г. Юнг, цит. по изд. 1994).
Наконец, мы должны обратиться к фундаментальному труду «Исторический смысл психологического кризиса» (1927) выдающегося ученого-психолога Льва Семеновича Выготского, в котором предлагается следующий общий рецепт преодоления очевидно кризисного состояния психологии в современный ему период: «Из такого методологического кризиса, из осознанной потребности отдельных дисциплин в руководстве, из необходимости — на известной ступени знания — критически согласовать разнородные данные, привести в систему разрозненные законы, осмыслить и проверить результаты, прочистить методы и основные понятия, заложить фундаментальные принципы, одним словом, свести начала и концы знания, — из всего этого и рождается общая наука» (Л.С. Выготский, цит. по изд. 1982).
Автор весьма прозорливо написал в эпиграфе к своему эпохальному труду: «Камень, который презрели строители, стал в главу угла...» Собственно обнаружению вот этого неясного «угла» и «камня-фундамента» обновленной психологической науки и посвящается основной текст проведенного Л.С. Выготским исторического исследования (хотя по сути и в первую очередь это реконструктивно-методологическое исследование, ибо даже подстрочное название цитируемого произведения Выготского формулируется как «методологическое исследование»). Только лишь за эту высочайшую планку и охватываемый исследовательский горизонт Л.С. Выготский заслуживает самых превосходных эпитетов.
Здесь мы бы хотели обратить внимание на главную эпистемологическую находку Выготского, проясняющую самую суть перманентной кризисной ситуации в психологической науке и, как мы считаем, в секторе наук о психике и корпусе науки в целом. Лев Семенович Выготский пришел к заключению, что имеют значение лишь «... две принципиально разные конструкции системы знания; все остальное есть различие в воззрениях, школах, гипотезах; частные, столь сложные, запутанные и перемешанные, слепые, хаотические соединения, в которых бывает подчас очень сложно разобраться. Но борьба действительно происходит только между двумя тенденциями, лежащими и действующими за спиной всех борющихся течений» (Л.С. Выготский, 1927). Речь, соответственно, идет о «метафизической» и «спиритуалистической» психологии — с одной стороны, и «объективной» и «материалистической» психологии — с другой, т.е. «правильной» стороны. Соответственно, первая обозначаемая им конструкция фокусируется на таких базисных способах познания, как «гнозис», в то время как вторая — на способах познания, обозначаемых термином «логос». Оба способа познания конфронтируют на полях психологической науки и, заметим, в общем пространстве наук о психике: «Итак, в понятии эмпирической психологии заключено неразрешимое противоречие — это естественная наука о неестественных вещах, это тенденция методом естественных наук развивать полярно противоположные им системы знания, т.е. исходящие из полярно противоположных предпосылок. Это и отразилось гибельно на методологической конструкции эмпирической психологии и перешибло ей хребет» (Л. С. Выготский, 1927).
Собственно, отсюда и выводится рецепт преодоления кризисной ситуации, сформулированный Л.С. Выготским, в котором содержатся рекомендации по разработке обновления фундаментальных принципов построения науки о психике и разработке новых исследовательских методов. То есть было сказано почти все, за исключением главного — собственно идеи, как это сделать.
Но вопрос, тем не менее, остается: а был ли найден этот сакраментальный «угол» и удалось ли обнаружить фундаментальный «краеугольный камень» системообразующего стержня психологической науки и, следовательно, всего сектора наук о психике? Ответ на этот вопрос такой, что, по всей видимости, обнаружить критические зоны, которые в то же время являются и зонами интенсивного роста, в общем методологическом поле психологической науки Л.С. Выготскому, безусловно, удалось. Но вот «поднять» этот краеугольный камень, с тем чтобы водрузить его на место, удобное для следующих поколений «строителей», — это вряд ли. Уж слишком сложной и выходящей за все мыслимые пределы очерченных в то время методологических границ оказалась эта задача.
Однако и в современных версиях понятия «психика», как это следует из содержания множества научных публикаций последних десятилетий, лежит эмпирический опыт исследования определенных видов функциональной активности психического, которые воспроизводимы в лабораторных (экспериментальных) условиях, принципиально доступны наблюдению и измерению и которые вследствие этого могут быть интерпретированы как некие «объективные» законы и закономерности функционирования сферы психического.
Заметим, что в основе такого эмпирического подхода, так или иначе, лежит калька одномерного плана реальности, или некая «объективная реальность», которую психика — в соответствии с главной идиомой естественно-научного подхода — может лишь «отражать», но и то лишь в определенном, доступном для сенсорных систем диапазоне. Остальное — домысливать в этом же ключе.
Для нас же должно быть абсолютно понятным, что такого рода калька — это есть когнитивная оптика бодрствующего сознания, функционирующего в строго определенном диапазоне параметров сознания-времени. Именно поэтому, а не в силу каких-то фундаментальных и специфических для этой сферы открытий, понятие «психика» изначально определялось через феномен сознания, понимаемого как некий аналог плана «объективной» реальности.
Возвращаясь к главному вопросу определения эпистемологического дефицита в сфере наук о психике, приведем знаковое высказывание Дэниела Робинсона (2005): «Появление научной психологии (первой общей науки о психике) не было обусловлено каким-либо открытием, расширившим имеющиеся знания в сфере психического и продемонстрировавшим специфику и независимость нового направления. Таким образом, не успев создать собственные внутренние основания для самостоятельного развития, психология была вынуждена искать убежище в логике развития сложившихся к этому времени естественно-научных дисциплин, по преимуществу биологических. Но такое убежище могло быть предоставлено наукам о психике только лишь ценой принятия последними определенных обязательств, в частности — ценой отмежевания от своих истоков в философии и ценой жесткого ограничения множества допустимых методов и задач».
И вот эта предельно ясная, ответственная и требующая научного мужества, констатация собственно и подводит черту под выявлением подлинных истоков системного кризиса в сфере наук о психике. А далее мы сосредоточимся лишь на некоторых особенностях осмысления и предлагаемых способах преодоления обозначенных кризисных явлений в рассматриваемом секторе науке и за его пределами.
Продолжение следует
- Вторая часть (объяснительные модели чудесного в религии)
- Третья часть (объяснительные модели чудесного в философии)



.jpg)









































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать