
Психиатр и психотерапевт, преподаватель Института гуманистической и экзистенциальной психологии (Вильнюс, Литва) Александр Ефимович Алексейчик в 1967 году создал первый кабинет психотерапии в Литве, а позже — также первое стационарное отделение Центра психического здоровья в Вильнюсе, которым руководит до сих пор. В своей работе с пациентами Алексейчик руководствуется собственным методом групповой терапии, название которой — «Интенсивная терапевтическая жизнь» — характеризует не столько подход Алексейчика, сколько сам способ его существования, поскольку, по его мнению, «главным диагностическим и лечебным средством в психотерапии и психиатрии является личность врача-психиатра». Иногда его также называют создателем «православной психотерапии». Он является одним из основателей восточноевропейской школы экзистенциальной терапии, по которой проводит семинары уже более 30 лет.
Когда в начале 80-х я учился на факультете психологии МГУ, мы, студенты, оценивали людей по своему гамбургскому счету — психологов, психотерапевтов, философов и просто интересных персонажей, с которыми мы обязательно должны были встретиться. По студенческим оценкам того времени нужно было обязательно попасть на лекции М.К. Мамардашвили, на семинары в школе В.П. Зинченко, на встречу с Карлом Роджерсом, на конференцию с участием Ю.М. Лотмана. Из этой удивительной плеяды выдающихся личностей начала 80-х особенно хотелось бы выделить Г.П. Щедровицкого и А.Е. Алексейчика.
«Сносит голову» и «выворачивает душу» — так звучали самые нейтральные характеристики происходившего на играх у Щедровицкого и на тренингах Алексейчика, что сам Алексейчик называл «ситуациями концентрированной жизни». Я бы рискнул утверждать, что Александр Ефимович владеет удивительной и редкой техникой очищения и оздоровления души. А тем, кто не уверен, что она у них есть, он помогает ее найти. Этот «душевный поиск» осуществляется за счет удивительной личной способности Александра Ефимовича говорить о существенном и истинном теми словами и примерами (притчами, историями, литературными образами), точно соответствующими тем состояниям пробуждения души, которые многие из его слушателей испытывают впервые в жизни. Это умение вовремя и точно обозначить словами душевные движения своего собеседника, которые порой провоцируются резким и жестким воздействием терапевта, выводят человека на новый уровень самопонимания и самоощущения.
Игорь Злотников
С доктором Александром Алексейчиком беседует Арнис Ритупс.
— Как устроена душа человека?
— О, вы сразу хотите очень много... Душа тем-то и хороша, что она не устроена. Устроение предполагает, что есть много частей, и эти части строятся, выстраиваются в строение, в здание. На мой взгляд, душа — это цельность, единство. С одной стороны, она очень проста — цельное не имеет частей. У нас, людей, много частей — уши, язык, масса ощущений, сотни всяких процессов. А душа все это обнимает и делает цельным и простым. Скорее можно сказать об этом метафорой: душа — это мама.
— Мама чего или кого?
— Мама дома. Когда дома есть мама, то это настоящий дом. Если мама умирает, остается папа, дети, внуки, а настоящего единства может и не быть. По Григорию Сковороде, душа — это то, что делает траву травой, дерево — деревом, а человека — человеком. Без души трава — это сено, дерево — это дрова, а человек — это труп.
— Если душа — мама, то кто папа?
— А папа — это дух.
— Это еще кто такой?
— Сейчас вам скажу. Мама — то, что объединяет внутренний мир человека. А папа — то, что соединяет нас с внешним миром. Он не только представляет семью как ее глава, он представляет нам весь внешний мир. Когда я вспоминаю своего папу, то вижу, что он мне представлял весь мир. Есть хороший образ: человек — это мост между двумя мирами — миром материальным и миром божественным. Вот для меня папа в полном смысле был представителем этого духа. Дух — это то, что объединяет нас с миром, мое я соединяет с ты, с ними, с «мы» в определенное целое. Поднимаясь все выше, я соединяет нас с Духом Святым и с Господом Богом.
— Бывают же люди, у которых папы нет.
— Я человек достаточно верующий, и мне трудно себе представить, чтобы человек был совершенно без папы. Бывают люди, у которых был папа очень слабым, почти невидимым и в семье, и в мире. Например, папа — алкоголик. Это очень слабые люди. Иногда они ищут уже не отца, а отчима, или ищут кумиров, как язычники. Конечно, бывают безбожники. Но скорее они безбожники внешне, а где-то в глубине каждый из них, у кого отца нет, хочет сам быть отцом, и хорошим отцом. Конечно, много людей, которые хотят очень просто и очень внешне утвердиться. Самый простой способ для этого — быть богатым. Вроде бы я все могу тогда купить — красивую жену, от нее родятся красивые дети, я им устрою красивую жизнь. Но одно дело — иметь, другое — быть в философском смысле. Иметь детей — это, конечно, тоже важно. Но если, имея детей, я не являюсь сам отцом, тогда я не очень-то и имею их.
— Я понял, что есть две ситуации — отец сильный и отец слабый. Но бывают же ситуации, когда человек не знает, каков его отец.
— А вот не знаешь своего отца, потому что он не показывает источник своей силы. Я вам расскажу случай, который произвел на меня впечатление. Вот отец в немецком лагере в 41-м году, он подполковник медицинской службы, а вернулся он лагерной пылью — рядовым из русского лагеря. Он говорит: «Лагерь, десять тысяч людей, осень. Пустое место огорожено колючей проволокой, вышки стоят, дождь идет. Холодно, люди гибнут, некоторые ранены. Если бы была операционная, я мог бы спасти сотни людей, а у меня ничего нет, немцы не рассчитывали на такое количество пленных. И один раз русские пленные набросились на лошадь и ее живьем разорвали, настолько были голодные. Это ад, и хочется броситься на проволоку. Но я вспоминаю, что ты у меня есть, — а мне тогда было полтора годика. — Как ты будешь там? И я становился сильным. Имей в виду, ты, может, мне жизнь спас, когда я вспоминал о том, что у меня есть сын». С одной стороны, он слаб, ничего не мог. А с другой — он мне это рассказал, когда у меня были трудности тоже. Вот он мне показал источник своей силы.
— Хорошо, папа — дух. Но бывают же люди, которые не знают своего духа.
— Все бывает, согласен. Но никогда не бывает совсем. Знаете, жена говорит мужу: «Я понимаю, что нет денег, но чтобы совсем не было — не понимаю». Мой любимый образ у Вересаева, русского врача и писателя: каждый трехлетний ребенок — гений, а каждый 13-летний мальчик — негодяй. Когда мне было три года, вокруг говорили на русском и на польском. И в течение нескольких месяцев я выучил этот язык и до сих пор разговариваю и читаю. Потом лет в 26–27 я пробовал выучить английский. Я, наверно, год над ним бился, кое-что мог понять, в статьях сориентироваться. В три года я был гений, сейчас в языковом смысле я негодяй, негодный человек. Но Господь всем дает шансы. Мой любимый образ: Господь по своей милости гарантирует нам вечную жизнь при некоторых условиях, но не гарантирует, что мы доживем до завтрашнего дня, авария — и все.
— Извините, что такое вечная жизнь?
— Для нее у меня тоже есть хороший образ: одни люди живут от рождения до смерти, а вот я осмелюсь себе сказать, что вместе с многими я живу от Адама до Страшного суда, живу не только своей жизнью, а жизнью своего деда, своего прадеда, о которых отец мне рассказывал. Они для меня живы, я ими восхищаюсь. Например, мой дед фактически спас свою семью. Он имел 200 десятин земли, не каждый помещик в Литве и в Латвии столько имел. Когда он увидел, что творится в 1929–30 году в Белоруссии, то первым пошел в колхоз, и поэтому его не вывезли, и семью — тоже. Еще до того, как он узнал, что большевики расстреляли царскую семью, он позвал своих четверых сыновей — еще когда НЭП был — и сказал: «Ребята, считайте, что у нас земли нет. И вообще в жизни может не быть. Считайте, что я эту землю продал, чтобы дать вам образование. Я буду потеть с мамой на этой земле, а вы идите учитесь». И все его дети получили образование: двое сыновей — инженерное (но это их не спасло, они погибли во время Отечественной войны); и двое сыновей получили медицинское — мой папа и его брат Василий. Оба они остались живы, потому что были врачами. Вот какой дед был мудрый человек. И я, в каком-то смысле, оглядываюсь на них. Они для меня живы. Я имею к ним претензии, но восхищаюсь ими. К своим дальним предкам — Адаму и Еве — я тоже имею претензии: если бы они там не поели, то мы бы жили в раю.
— В чем здоровье души?
— Если очень просто сказать, лечение — это исцеление, целение, цельность. Здоровье души — в ее цельности, в том, что она как хорошая мама — она обо всех заботится, и если мама по-настоящему хорошая, ее никто не ревнует за то, что она заботится о младшеньком или о том, кто болеет, а не обо мне. Мой любимый образ: если вы любите собаку, то любите всех собак.
— Если любите одну женщину, то любите всех женщин?
— Конечно, но только любовь разная. Если я люблю женщину, то люблю всех женщин. Почему люблю всех женщин? Раньше я представлял, что отца любил намного больше, чем маму. Теперь, когда оба они умерли, начал сомневаться, так ли это было. Теперь я думаю, что я по-разному их любил, только одну любовь чувствовал лучше, а другую мне было труднее почувствовать. Но вот если бы я не любил маму, не научился бы любить женщин вообще, не научился бы любить свою жену, не имел бы первой любви, второй, третьей.
— Что значит — уметь любить жену?
— Имейте в виду — это сложно и очень по-разному.
Мое любимое определение здоровья — это способность человека каждый раз по-новому воспринимать и по-новому воспроизводить события внутренней и внешней жизни. Вот суть здоровья.
— Я не уверен, что такая формулировка много мне говорит. Вы не могли бы немножко развернуть ее?
— Ну хорошо. Если упростить, как часто я с больными говорю. Я говорю: я вас обследовал и вы убедились благодаря моему обследованию, что вы дурак?
— Полный.
— Нет, полный — так не бывает. Но если каждый раз я буду ему напоминать «Вы дурак, вы дурак», это будет замкнутый круг. Но один раз я ему говорю: «Вы дурак в этой области и поэтому вы страдаете». Потом я говорю, что и в этой области он не дурак, но ограниченный человек. Везде границы, но не такие, как у Советского Союза в том анекдоте, в котором ученика спрашивают: «С кем граничит Советский Союз?», а он не помнит и говорит: «Советский Союз — это такая страна, с кем хочет, с тем и граничит». Так вот, я каждый раз вам про вашу ограниченность говорю по-другому. Иногда надо сказать: «Вот смотрите: вы же в этом не разбираетесь, боитесь, что вы сумасшедший. А я вам объясняю, что вы сумасшедший, но не везде — то есть ум у вас есть, но вы не умеете его применять, например, в отношениях с вашим страхом или с вашей депрессией». А если вы спросите: «Что это значит — сумасшедший?», то я и это объясню.
— Вот объясните мне.
— Это человек с ума сшедший или сумасшествующий — вы иногда с ума шествуете, а потом возвращаетесь.
— Но ум же не гора, с которой можно сойти.
— О, ум — это такая вещь, с кем хочет, с тем и граничит. И сходят с него, и восходят на него. И что такое душевная болезнь — это состояние, когда я выхожу из себя, из этой нормы, вышел из себя и не вернулся. А в другой раз — вы до меня добиваетесь или жена добивается, а я ушел в себя и тоже не возвращаюсь. Для меня в этом есть польза, а жена бесится, что я не обращаю на что-то внимания, что чем-то не хочу поделиться. Это и есть сумасшествие — когда выходите из себя и на слишком долгое время. Если на пять минут вышли и вернулись — все в порядке, это нормально. А когда вышли надолго — другое дело. Как больной говорит: «Я вижу, что отрываюсь от реальности. Реальность от меня далеко, и боюсь, что никогда не вернусь к ней». А я показываю, что вернется.
— Вы мне не ответили на вопрос, что значит — уметь любить жену?
— Так вот, это значит каждый раз по-новому воспринимать ее и каждый раз по-новому воспроизводить наши с ней взаимоотношения. И она меня тоже воспринимает по-другому... Она не только моя жена, но и мать моей дочки и моего сына. Каждый раз что-то уходило, но появлялось другое. Любимый мой образ: живем один раз, но каждый день. Понимаете, каждый день — новый. Вот это здоровое отношение.
— А каким способом вы можете каждый день на свою жену смотреть как на новую?
— Ну я говорю: каждый день — новый. Один раз она меня радует чем-то хорошим. Другой раз — огорчает, чаще всего так: «Ты знаешь, я все время чувствую, что твоя обособленность для тебя важнее, чем семья». Это меня огорчает, но я каждый раз огорчаюсь немножко по-другому. Иногда переношу огорчение и не реагирую. Или говорю ей: «Ну нет, там я людей меняю, а ты у меня — одна единственная». А другой раз говорю: «У меня там такие женщины, самоубийцы, они для меня сейчас важнее, чем семья». А в третий раз: «Ты знаешь, что в XIX веке легко было сменить работу, но никак нельзя было сменить жену — церковный брак. А теперь жену сменить легко, трудно поменять работу. Ты что, хочешь, чтобы я поменял работу? После этого имей в виду, что мне, может, захочется поменять и жену». И я доволен своим ответом, доволен, что она меня вызвала на такое. Или я могу отмолчаться... и радуюсь, что отмолчался.
— Но вернемся к здоровым людям. Вы указали на то, что здоровье души связано с цельностью человека. Кроме вашего отца, вы встречали в этом смысле здоровых людей?
— Да, конечно, полно. Тут я хочу сказать о своем здоровье. Меня иногда спрашивают, как с моим здоровьем. И я отвечаю: «Я больно здоровый». В том смысле, в каком говорят «больно умный». С возрастом у меня, конечно, и давление подскакивает, и язву я перенес. Боль мне немножко напоминает о себе, и поэтому я больно здоровый. Но если я болею, я говорю, что был «здорово больным», как другие говорят «здорово умный», слишком умный — и в хорошем смысле, и в плохом. Но возвращаясь к людям, которые были вокруг меня: я видел и по-хорошему здоровых людей, это в массе своем средние люди. А большинство очень интересных людей для меня были все-таки «больно здоровые» или «здорово больные», несмотря на свою болезнь.
— То есть интересный человек — это уже почти диагноз.
— Когда он выходит за границы среднего, то да. Но вы статистику умственного состояния людей представляете себе? 3% людей — клинически слабоумные: дебилы, имбецилы, идиоты (большинство из них — дебилы). Очень умных, по-настоящему творческих — тоже 3–4%, как мы с вами. Остальные — средние, посредственные. А чтобы быть выдающимся — за это надо платить, за это надо страдать.
— А платить чем?
— Платят страданиями. Смотрите, слова чему учат. Труд — это когда по-настоящему трудно. Корень этого слова тот же самый, как у страды. Чтобы достичь многого за пределами середины, надо выстрадать. Все настоящее выстрадано. И за это приходится платить. Недавно известный врач приводит ко мне свою жену. Оказывается, что ей плохо: муж хорошо зарабатывает, но в 7 утра уходит на работу и в 10 возвращается — работает на трех работах. И у меня тоже фактически три работы — я езжу на семинары, преподаю в нашем частном институте экзистенциальной психотерапии, консультирую пациентов. Он с утра до вечера работает, жена за него тревожится, видит, что он может сойти в могилу таким образом, тем более, что старше ее лет на 20. И она из-за этого болеет. А он сам еще этого не чувствует и расплачивается тем, что болеет его жена. Люблю эти образы: боль — это рассказ, болезнь — это повесть, серьезная болезнь — это роман, тяжелая болезнь — это эпопея. Если мы хотим обойтись маленьким рассказом о нашей жизни — то можно жить сравнительно легко. Если хотим написать повесть, это уже будет не боль, а то, что за ней, — заболевание. Если хотим написать роман — его надо выстрадать, это уже будет страдание. А если мы хотим отразить эпоху — как Толстой, Достоевский — нам выпадет все, что они выстрадали.
— Боюсь, что следующий мой вопрос покажется глупым, но все равно я должен его задать, потому что куда-то он может нас привести. А вопрос такой: назовите, пожалуйста, главные причины душевных болезней.
— Мне как религиозному человеку достаточно легко на это ответить. Главная причина болезней нам дана в Священном Писании: это отпадение от Бога.
— В смысле, это грех?
— Да, это грех. Люди были здоровы, были в раю, для них было все возможно. Кроме одного — есть плоды от дерева познания добра и зла. Вот они отпали, и начались болезни. Но раз мы созданы по образу и подобию Божьему, наша задача в жизни — приближаться к этому образу, уподобляться нашему Отцу Небесному и Сыну Небесному. А если не получается — то уподобляться своему отцу, такому, которого я в каком-то смысле обожествляю. Или сыну — если не Христу (это трудно, конечно), то своему сыну, который, когда ему было три года, был гением. Сейчас моему сыну 33, и он уже негодяй хороший.
— А дочь не годится?
— Тоже годится. Дочка тоже тогда была гением, а сейчас негодяйка. Выучила несколько иностранных языков, работает переводчиком в Европарламенте.
— Это явный признак негодяйства.
— Вообще-то слово «негодяй» можно воспринимать как «очень плохой», а можно — как «негодный». Совсем негодных ни к чему — таких не бывает. Бывают не весьма годные к семейной жизни, не весьма годный быть отцом...
— Хорошо, вот, например, хроническая депрессия — она из какого греха?
— Помните семь смертных грехов? Первый какой? Первый — гордость, люди захотели быть как боги. Змей им говорит: «Попробуйте это яблочко — и станете богами». А связь такая: одно из хороших определений депрессии — это отказ от своей детской гениальности, от инфантильного всемогущества. Для родителей каждый их ребенок — самый лучший, самый гениальный. А он потом выходит в мир и видит: нет, меня не принимают гениальным, я должен заслужить уважение других. А заслужить трудно. И он остается. Вот я вам задам вопрос, а вы будете моим пациентом. Этот вопрос на вид кажется очень простым, но он включает очень многое из того, о чем мы разговариваем. «Сколько вам лет?»
— Не знаю.
— Тупой вы человек, тупой. Но слава Богу, не знаете. Большинство людей отвечают по паспорту. А я спрашиваю — на сколько вы себя чувствуете? И тогда уже очень многие — такие же, как вы, 50-летние — говорят: 15, 12, 18. Живут они не в своем возрасте. Им приходится отказываться от своего детского всемогущества и гениальности, и отказываясь, они впадают в депрессию.
— А у шизофрении тоже есть корни в грехе?
— Конечно.
— Этот механизм вы могли бы прояснить?
— Ха, ха, ха, задали мне вопрос! Знаете, такой вопрос задает студенту профессор на экзамене: «Так все-таки, каковы причины шизофрении?» Студент говорит: «Извините, профессор, так волнуюсь, такой напряженный, вчера читал, вчера точно знал, а сегодня забыл».
— Вы увиливаете.
— Я вам хочу сказать: это такая сложная болезнь, что не знают никакой нозологии — ни материальной, ни душевной, ни духовной до конца не знают. Есть масса теорий — значит, нет ни одной хорошей. Если есть масса лекарств от болезни — значит, ни одного хорошего. Можно сказать, грех гордыни первоначальный — он везде присутствует. Мне мало быть хорошим психотерапевтом, мне хочется быть и хорошим психиатром, и хорошим врачом, и хирургом, и патологоанатомом — это гордыня. Кроме того, один из смертных грехов — жадность. Я жаден, я многого хочу.
— Если гордыня везде, то не имеет смысла говорить о ней в связи с причинами чего-либо.
— Имеет. Потому что она везде может присутствовать, но в разных степенях. Возьмем массовые душевные эпидемии, как марксизм-ленинизм. В них все упрощается: что первично, что вторично, борьба классов, прибавочная стоимость. Из этого все объяснить — это же гордыня. Тот же нацизм — превозношение нации.
— А фрейдизм — не проявление гордыни, как марксизм-ленинизм или нацизм?
— Конечно, проявление. Фрейд — интересный человек, но фрейдизм — нечто ужасное.
— Чем для вас интересен Фрейд?
— Он очень крупный мыслитель, крупный психотерапевт, начинатель многого, начальник. С него многое началось. Он по-другому, по-человечески начал разговаривать с больными. Я еще застал таких психиатров, которые говорят: «Слушайте, доктор! Что вы с ним разговариваете? Ему внушить что-то? Да вы что!?» Так вот, Фрейд начал разговаривать с больными. Он говорил, что врач может лечить психоаналитически пять-шесть больных в год. А у нас сейчас врач должен лечить 12–20, а в некоторых больницах — по 40 одновременно. Потом Фрейд обратил внимание, что ребенок — это тоже человек; не недоросший взрослый, а настоящий человек; что ребенок имеет гений. Потом только забывает о своей гениальности, и к этому надо относиться всерьез. Как к болезни, потому что этому гению не дали развиться хотя бы в одном хорошем направлении. А вы помните, что такое викторианская Англия, где тоже не было секса, как и в Советском Союзе?
— Но в английских публичных домах много чего происходило.
— Да, в публичных домах черт знает что выделывали. А вот по-человечески в семье об этом не говорили. А вот Фрейд говорил.
…
— В ваших текстах я встречал фразу «живая жизнь». Даже если я иногда жил живой жизнью, то в основном не так, в моей жизни не хватает жизни. Это отчего?
— Конкретно в вашем случае, пока я вас не обследовал, не могу сказать, что вас разочаровало в жизни.
— У меня никакого разочарования нет. Я жил интенсивнее и менее интенсивно. Но причины этих изменений, откуда появилась интенсивность, для меня не понятны. Я хотел бы понять их, но нет приборов.
— Как нет приборов? Они не нужны, есть душа. Что значит для вас более и менее интенсивная жизнь?
— Более интенсивная — значит, с интересом ко всему, что происходит. Вот, например, шофер наш не может найти интереса к жизни. Это болезнь или просто недоумение?
— Хорошее слово сказали, бывает человек в не-до-умении. Не так, что он слабоумный. А умения недостает, не умеет жить, раз в таком состоянии.
— А как от неумения жить перейти к умению — у вас есть совет?
— Я вам советы не хочу давать, это будет не психотерапия, а страна советов. Я должен вместе с человеком переболеть, понять, что его довело до такого состояния. После этого с ним должен кое-что прожить. Могу ему, когда он начнет что-то делать, помочь. Вот это будет моя работа. Может быть, мне надо будет положить его в свое отделение, чтобы показать, как другие мои пациенты реально живут друг с другом.
— Что это значит — реально жить?
— Я вам скажу. Когда мы говорим, то это вербальность, словесность. А чтобы было действительно, надо действовать. Если вы гневливый человек, злой, и я вам буду говорить, что есть триста разных способов стать менее гневливым — это будет библиотерапия. Я вам даю книги, вы читаете, приспосабливаетесь или нет. А настоящая терапия — это когда я вам говорю: «Ну-ка давайте поссоримся, погневайтесь на меня». Суть моей психотерапии: лучше один раз почувствовать, чем сто раз увидеть. Не только услышать, что я могу гневаться, а увидеть, почувствовать это. Почувствовать — это значит и посочувствовать. Лучше один раз захотеть, чем сто раз почувствовать. Лучше один раз сделать, чем сто раз захотеть. Такая прогрессия идет и дальше. Но основное, то, на чем можно остановиться, — сделать. Действие и делает нашу жизнь действительной.
— Вы любите играть словами, их по-разному поворачивать, смотреть на них, играть с ними. Вы думаете, слова чему-то нас учат?
— Не только учат, мы ими живы.
— Что это значит?
— Слова оживляют в нас все лучшее, оживляют нашу душу, помогают нашей связи и с духом, и с Богом. Есть много словечек, и есть слова, которые ближе к первоисточнику.
— Разве словами нельзя убить?
— Все, наверное, можно. Недавно у меня была молодая женщина. Она узнала, что у нее ракоподобное заболевание в мозгу, несмотря на то, что ее очень удачно прооперировали... А по закону врачу нельзя врать пациенту: если соврешь, а потом человек умрет — с больницы взыщут. И врач ей сказал, что шансы 50 на 50. И через неделю она повесилась, боялась ждать. Словами, да, можно убить, но только некоторыми — болезнь, смерть. Что такое смерть? — Вслушайтесь.
— У меня плохо с русским языком.
— Смерть — это жизнь с мерой, высшая мера социальной защиты. С мерой — это высшая мера, нас испытывают по-высшему тем, что мы умрем, и неизвестно когда. Есть такой образ: живи так, как будто ты бессмертен. А другой образ: будто это последний день твоей жизни. Только тогда почувствуешь, что такое жизнь. И желательно, чтобы человек жил всегда с этой мерой, вблизи с этой мерой.
— А вы боитесь умереть?
— Слава Богу, конечно. Было у меня в жизни, что раз семь я был на грани смерти — в детстве. Не было антибиотиков, у меня было воспаление легких. Или: я был под бомбежкой — нас в Минске бомбили советские летчики. Это совсем другой страх, я его познаю совсем по-другому. Это такой интересный страх, который гораздо ближе к базовому страху.
— К какому базовому?
— К страху Божьему.
— Страх смерти, по-вашему, близок к страху Господню?
— Ближе. Но я живу до Страшного суда, я больше боюсь Бога, чем смерти.
— Как вы переживете смерть, если собираетесь жить до Страшного суда?
— Я не думаю, а этим живу — что я переживу смерть, а не смерть меня переживет.
— А что в вас переживет смерть?
— Естественно, моя бессмертная душа.
— Та самая мама.
— И мама, и папа. Почему душа здорова и хороша? Потому что она подчиняется... Душа питается от духа и питает тело, а тело питается от души. Поэтому они бессмертны. У многих людей бывает все наоборот. Душа не питает тело, а питается телом, и дух не питает душу, а питается душой. Вот источник всех наших болезней. Но это абстрактно. А конкретно — я действительно в молодости боялся, что умру, и детей не будет, а они у меня должны быть. И те, мои неродившиеся дети, они же будут иметь ко мне претензию. И женщину какую-то я не сделал бы счастливой, или несчастной хотя бы.
— Знаете, я иногда, говоря с людьми, задавал один вопрос специально. Не потому, что он меня интересовал, а потому что, может быть, читателей интересует. «В чем смысл жизни?»
— Ха! Если говорить в общем, то это ясно: человек создан по образу и подобию Божьему и должен этот образ в себе по возможности реализовать... Мужчина говорит: «Знаете, вот эта женщина, конечно, не Венера, но что-то венерическое в ней есть». Я, конечно, не Бог, но что-то божественное во мне есть, и это во мне возрастает со временем, и поэтому жизнь для меня очень интересная. И если бы мне не то что черт, а даже ангел сказал: «Тебе полагается еще 10 лет жизни, давай пять из них поживи молодым», Я бы не согласился. Или он предложил бы: «20 лет молодости даю, но отнимаю 10 лет старости». Нет — у меня преклонный и непреклонный возраст.
…
— Что является главным врагом любви? Что быстрее всего ее убивает?
— На одной супервизии прозвучало замечательно: «Я верю в Бога, но время от времени у меня появляется к нему недоверие, и это убивает любовь к Богу». Действительно, вера — определенная целостность, некий максимум. До веры идет уверенность, доверие — я могу доверять вам. Это небольшая степень веры: я могу быть уверен в вас, тут вы не подведете, не измените мне, будете преданы мне или общему делу. А вера в вас — обычно то, что испытано, проверено годами. Если мы говорим о любви, то когда появляются всякие степени недоверия, они начинают ее разрушать. И обыденность — тоже: когда люди начинают искать в любви не самое главное — искать удовольствие, делать акцент на страстях, на чувствах, требуют, чтобы любовь демонстрировали, чтобы ее подтверждали. Это все начинает ослаблять любовь. Помните, я говорил, что здоровье — это способность каждый раз воспринимать события внутреннего и внешнего мира по-новому и воспроизводить по-новому. И когда не воспроизводится эта новизна, исчезает, или, наоборот, остается, не пуская другое... Знаете, есть такой юмор: у женщины бывает пять возрастов — дитя, молодая девушка, молодая девушка, молодая девушка... И многие за это держатся. У мужчин — то же самое.
— Что происходит, если женщина ждет, что к ней будут относиться как к молодой девушке и постоянно ее завоевывать?
— Молодая девушка очаровывает, прельщает, но это не самое главное. Я говорил уже, что потом она должна стать женщиной, рядом с которой молодому человеку уже захочется быть не мальчишкой, а мужчиной. В норме мужчине необходимо любить и девушку, и зрелую женщину, и пожилую женщину, а не делать культ или кумира из какого-то этапа жизни. Создание этих кумиров и желание быть кумиром разрушают любовь.
— Вы помните как Уильям Джеймс, психолог американский, однажды ночью проснулся и понял тайну человечества. И записал ее. А потом заснул. Когда проснулся, то забыл и про нее, и про запись. А под конец дня вспомнил и прочитал: «Все женщины моногамны и (неразборчивая строка), а все мужчины полигамны (и еще одна неразборчивая строка)». Как вам кажется, в этом и есть тайна человеческой жизни?
— В этом есть доля истины. Если смотреть на человека как на существо природное, это легко объяснить. Женщина, как бы она ни старалась, больше 30 детей родить не может — таков цикл беременности и кормления. Мужчина в силу своей биологии может иметь и тысячу детей. Подсознательно и женщина, и мужчина это чувствуют. И если он тяготеет к биологичности, то так и происходит. Но если он делает акцент не на биологичности, а на душевности и духовности, он может быть верен, моногамен.
— Как превратить печаль бессмысленную в печаль с пользой?
— Если дать самый общий ответ, то надо быть человеком верующим, практически верующим. Одним из проявлений моей веры является следующее — это я не сам придумал, а прочитал у отцов церкви — если Господь Бог меня наказывает, то, слава Богу, он меня не забыл, не бросил. И вещи, из-за которых стоит печалиться — если я таким образом с помощью своей веры их преображаю — выходят мне на пользу.
— То есть неверующий не имеет шансов превратить свою печаль в печаль с пользой?
— Я не могу так сказать. Если вы говорите о больших процентах, я не представляю себе, чтобы человек совсем ни во что не верил. Один верит, что Бог есть, другой — что Бога нет.
— Вас не упрекали в том, что ваша вера может вам мешать как профессионалу психотерапевту?
— Были эпизоды. Кстати, в Риге в русском соборе раньше было общество знаний. Я когда-то читал там лекцию о душе. И вдруг подбегает человек, ответственный за эту лекцию, и говорит: «Доктор, ради бога, скажите, что души нет, а то у меня будут крупные неприятности». А теперь все склонны себя считать религиозными людьми, и пациент ожидает, что доктор будет верующим. И меня боятся упрекать, хотя заочно поговаривают, что моя вера — в некотором смысле болезненная.
— А вы не думаете, что ваша вера — форма самовнушения?
— В самовнушении делается акцент на себе. Помните? Невротик — это тот, кто 80 тысяч раз в день бегает вокруг собственного Я. А вера — вслушайтесь — есть вера в Бога, в шефа наверху. Но есть вера в Бога, и есть состояние намного более высокое — вера Богу. Я не только верю, что он там есть, я верю, что он взял к себе моего отца и маму тоже, и многих моих близких. Я верю, что он и меня не оставит на этой земле. А еще более высокая ступень — это верность Богу. Есть право-славные, правильно славящие Бога. Есть право-верные, мусульмане: быть верным Богу еще более сложно. И я верю не только в то, что есть какая-то сила, энергия, а верю в то, что это личность, и мы созданы по ее образу — это еще сложнее, даже попытаться воспроизвести в себе эту троичность, что во мне Бог-Отец, Бог-Сын и — более неопределенное — Святой Дух.
— А почему не мать, дочь?
— Тоже, а как же. У нас семейный Бог. И Богородица есть. Не только отец есть, но и отчим — Иосиф святой.
— У вас никогда не было случая, чтобы вера вам мешала что-то увидеть в другом человеке?
— Никогда так не считал. Мне больше мешал недостаток веры. Недостаток веры затемняет взгляд, а избыток веры — непосредственная память о десяти заповедях, о декалоге, о семи смертных грехах, о грехах, взывающих к отмщению, оскорбляющих величие Божие — вызывало во мне больше определенности, вызывало страх Божий, который и позволяет мне жить до Страшного суда.
— Мне кажется, что это идет от каких-то ваших коллег, которые говорят, что вы продолжаете традицию провокаций и шока, известную в советской психотерапии.
— Знаете, это они продолжают, когда делают из больных овощей — затормаживают человека, и он застывает.
— То есть шокотерапия — не ваш подход?
— Нет, мой подход — реальность, реальная, настоящая жизнь.
— Но я слышал, что вас коллеги считают слишком жестким в своей практике. А в чем лечебная сторона жесткости?
— Я дуракам, слабоумным в своей больнице говорю, что они дураки. Душевнобольным, сумасшедшим я говорю, что они сумасшествуют. Они говорят: «Вот там, на горке, за решеткой мы не сумасшедшие». А у меня на окнах нет решеток. Почему у нас решеток нет? Потому что в отделении ходит Алексейчик, хороший дрессировщик с кнутом, и вы тут ничего не вытворяйте. Чуть что, я выбрасываю больных, говорю: «Знаете, что такое свобода и независимость? Вы свободны выбирать себе отделение и врачей, где лечиться. Но и я свободен выбирать себе больных».
— А вы сам случайно немножко не сумасшедший?
— Ну, слава Богу, конечно! И не немножко! Когда ко мне приходит сумасшедший, я с ним схожу вместе с ума.
— Вы сказали, что болели сотнями душевных болезней. Объясните, что это значит?
— Придет ко мне больной с депрессией, и я вчувствуюсь в него, и я буду страдать депрессией.
— Вы не прикидываетесь?
— Нет. Он мне рассказывает, что пять раз пытался покончить с собой. И я начинаю больше тревожиться, чем он. Он знает, что сейчас-то не покончит, а я тревожусь за него, за больных, которым он это расскажет, за персонал.
— Но тревога еще не депрессия.
— Нет, потому что он самоубийца, он в тревоге, в растерянности. С тревожным больным я тревожен. С шизофреником я немного шизофреник. Но разница в том, что моя шизофрения контролируема. Понимаете, чтобы человек мог помочь другому, важно присутствовать — при сути быть, по сути быть с этим человеком. У митрополита Антония Сурожского, одного из моих заочных учителей, написано: «Присутствовал при смерти солдат смертельно раненых» — которым помочь нельзя, но для них это было важно. Он менял их состояние, когда говорил: «Ты не отойдешь на тот свет один. Я буду рядом, я буду провожать туда». Мне неприятно говорить. Может, прозвучит, что я такой молодец, такой особенный. Но я действительно провожаю больных в психоз и из психоза. А многие врачи относятся, как в песне Высоцкого: «Сумасшедший, что возьмешь?»
— А как вы научились так вчувствоваться в больных?
— Обыкновенно — практика, практика. Сначала — осторожно, сначала боялся. Вы, наверное, знаете, что в среднем врачи кончают самоубийством в 2–2,5 раза чаще, чем другие люди. Обыкновенные врачи. А психиатры — еще в 2–3 раза чаще, чем другие врачи. То есть в 5 раз чаще, чем обычные люди. Причины разные, но в основном они так переживают.
— А опыт можно передать другому? Вот у вас есть большой опыт в лечении больных.
— На словах опыт непередаваем. А в деле, на деле, на самом деле — вслушайтесь в этом слово, это не игра, само дело передает. Учитывая, что в этом присутствует не только пациент наш, но — и прошлое, и настоящее, и будущее. Есть такие семейные терапевты, которые говорят: «Лечить только больного — это бесперспективно и безнадежно. Надо лечить всю его семью». Например, при алкоголизме: разными путями, но семья поддерживает алкоголизм этого бедного человека. Надо лечить их вместе. Вы понимаете, почему люди — не говорю об алкоголиках — иногда любят напиться? На эту тему есть хороший анекдот. Идет психиатр, а навстречу пьяненький его бывший пациент. Психиатр говорит: «Павел Николаич, две недели назад, когда вы выходили из больницы, вы сказали, что вы уже другой человек». Тот говорит: «Доктор, это правда, я другим человеком вышел из больницы, но оказалось, что этот другой тоже хочет пить». Как трудно переделывать, как трудно изменить! У меня был хирург 50-ти лет, заведующий отделением, в расцвете сил, но несколько раз в месяц запои по три-четыре дня, а потом еще несколько дней не может оперировать. И вот он ко мне пришел. И я ему помог. Потому что я его научил быть пьяным от жизни — от того, что он спасает людей, от того, что на него молятся. И он сделал усилие и лет 15 блестяще работал. Но у него есть, от чего быть в кайфе. Есть такие люди, конечно, у которых... у которых все потеряно — и лучше ему умереть от белой горячки, чем покончить с собой. Но это все сложно, и это не мы решаем. Я видел много людей, которым говорил, не скрывая: «Лучше вам пить водку, чем таблетки. Алкоголь проверен тысячелетиями, дозирование возможно».
— В ответе на мой первый вопрос о душе вы сказали, что человек без души — это труп. Бывают люди, которые вроде бы живы, а на самом деле — трупы?
— Я не люблю быть очень категоричным, но скажу, что есть люди... есть некоторые люди, которые думают, что они живые. Помните, Декарт даже сказал: я думаю, значит, я существую. Я, например, не думаю, я убежден... Вслушайтесь, убедиться — значит, у беды побывать... Я у многих бед побывавший, я верю, что я достаточно душевный и духовный человек. Более того, я этим живу. Мой любимый анекдот: один мужик лежит в Ташкенте в пыли, в грязной луже. Один интеллигент подходит и говорит: «Чего вы лежите, смотрите, солнце светит, птички поют, облачка красивые, рядом женщины ходят?» и пробует его поднять. Тот опять — бух в лужу! А второй опять уговаривает, вытаскивает. А тот — снова в лужу и говорит ему: «Мужик, чего ты пристал? Я тут живу». Я, например, живу там, а некоторые только думают, что живут там. Но чтобы они совсем были без души, были травой?.. Господь Бог всем дает шанс, никого не забывает.
Источник: https://www.sifep.ru/stati/tuda-i-obratno-beseda-s-doktorom-a-e-aleksejchikom-o-psikhoterapii-i-o-zhizni

.jpg)













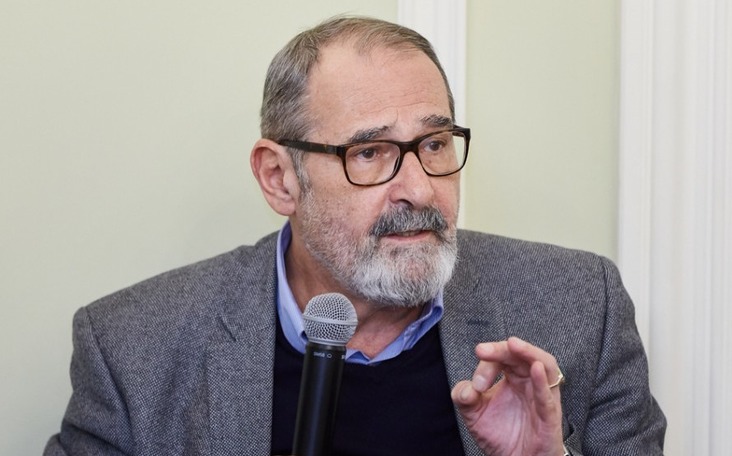











































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать