
Психотерапия начала оформляться как самостоятельная область естественнонаучных и гуманитарных знаний, социальная практика и профессия сравнительно недавно — примерно 150 лет назад, если взять за условную точку отсчета 1872 год. Именно в этом году английский врач, эксперт по психическим заболеваниям Дэниэл Хак Тьюк (Daniel Hack Tuke) дал заглавие «Психотерапия» одному из разделов своей книги «Иллюстрации влияния разума на тело» [12]. Знаменитое изречение Германа Эббингауза о том, что психология имеет долгое многовековое прошлое и краткую научную историю [1, с. 14], справедливо и по отношению к психотерапевтической науке и практике. Проблема исцеления души занимала врачей, теологов и философов на протяжении многих столетий, однако само понятие «психотерапия» входит в широкое употребление только в конце XIX века, когда зарождаются психоанализ Зигмунда Фрейда, «терапия убеждением» Поля Дюбуа и первые школы гипнотерапии. Парадокс развития психотерапии заключается в том, что длительное многовековое вызревание ее теоретических и методологических оснований сменяется стремительным ростом и интенсивной внутренней дифференциацией в XX столетии — в век научных альтернатив. В силу уже ставшей привычной аналогии с описанными Томасом Куном процессами формирования и кризиса «нормальной науки» [7], конкурирующие между собой психотерапевтические модальности принято рассматривать как научные революции, что не всегда обоснованно. Таким образом, за длительной эволюцией психотерапии последовал столетний период ее революционных преобразований и разнонаправленной мировой экспансии. Плоды этого периода мы пытаемся осмыслить в наши дни.
К концу XX в., по замечанию Ф.Е. Василюка, «психотерапия встроилась во внутренние механизмы каждой из сфер культуры как необходимый элемент их функционирования» [3, с. 82]. Ее влияние на различные стороны и аспекты общественной жизни к настоящему моменту приобрело поистине всепроникающий характер. Более того, мы можем непосредственно наблюдать, как она превращается в самостоятельный и влиятельный институт западной культуры [3, с. 82]. То, что долгое время вызревало, у нас на глазах упорядочивается и складывается в единую систему с собственными нормами, принципами, формальными и неформальными правилами, стандартами и регулятивами. В силу указанного обстоятельства психотерапия закономерно становится «предметом культурологической рефлексии» [3, с. 80] и все чаще рассматривается как особый культурно-исторический феномен. Такой угол зрения позволяет сформулировать ряд принципиально новых вопросов, касающихся сущности и предназначения психотерапии. Безусловная заслуга Ф.Е. Василюка состоит в том, что он сумел с присущей ему ясностью и глубиной сформулировать эти междисциплинарные вопросы.
Далее мы обратимся к изобилующей ценными идеями и во многом новаторской программной статье Ф.Е. Василюка «Культурно-антропологические условия возможности психотерапевтического опыта» [3] и попытаемся переосмыслить ее положения. Первым делом сгруппируем затронутые в ней темы по четырем рубрикам.
- Существуют ли аналоги психотерапии в других культурах и в другие периоды истории? Правомочно ли утверждать, что более ранние, зачаточные формы психотерапии практиковались древними шаманами, магами и жрецами, в рамках древнегреческого театра или симпосия, в древнекитайском даосизме или дзэн-буддизме, в исповедальне католического священника или в православном монастыре?1
- Каковы условия институционализации психотерапии в культуре? Какой должна быть культура, в которой становится возможно развитие психотерапии как особого института?
- Каков тип человека, для которого психотерапия служит культурно адекватным способом разрешения жизненных проблем? И когда, в какой исторический момент появляется этот типаж? Что предшествует его выходу на историческую сцену и подготавливает этот выход?
- Какова культурная миссия психотерапии? Какую роль играет психотерапия в общественной жизни, как можно определить ее предназначение в более широком социокультурном контексте? Будучи элементом других систем (здравоохранения, образования, социальной защиты, бизнеса, вооруженных сил и т.д.), какие функции в них она выполняет?
Вопрос о древних прообразах психотерапии, о прототипах пациента и психотерапевта, сложившихся в другие, более ранние исторические эпохи, сопряжен с риском впасть в анахронизм и приписать прошедшим временам современный образ мышления и характер социальных отношений. Сходство между нынешними психотерапевтическими интервенциями или психотехниками и древними практиками «заботы о душе» может оказаться поверхностным и вводящим в заблуждение. «Чань-буддийский наставник, — пишет Ф.Е. Василюк, — предлагает ученику коан, решение которого должно помочь избавиться от эмоционально-психологической “омраченности”; шаман племени индейцев куна поет в хижине ритуальную песню, помогающую роженице благополучно разрешиться от бремени; монах в православном монастыре исповедует старцу помыслы — каждую из этих форм культурно-антропологических практик современный психотерапевт с готовностью признает предтечей профессиональной психотерапии. Однако тут нет никакой симметрии — ни чань-буддийский учитель, ни шаман, ни старец не признали бы в психотерапевте своего потомка или собрата. Но не потому, что невозможно найти сходства в методах его действий, а потому, что радикально отличаются контекст, цель и смысл этих действий» (курсив мой — Ф.Ф.) [3, с. 84].
Желание увидеть своих полумифических предшественников в дальних предках, спроецировав на них современные представления, лишь уводит от понимания исторического прошлого, которое мы в угоду собственному тщеславию населяем фантомами и химерами. Мы допускаем и другую грубую ошибку, когда подводим под общий социокультурный знаменатель несопоставимые духовные традиции Запада и Востока, усматривая в них зачатки или предварительные варианты психотерапевтической помощи. При этом наше понимание психотерапии становится необоснованно расширительным и размытым, так как принципиально различные практики произвольно подтягиваются под эту категорию.
Важно избежать двух крайних и заведомо ошибочных установок при анализе культурно-исторических факторов развития психотерапии. Согласно первой, психотерапия, бесконечно меняя обличия, имена и личины, существовала на протяжении многих веков; задача исследователя — угадать ее очертания под очередной маской, обращаясь к опыту прошлых эпох. Согласно второй установке, психотерапия появляется в конкретный исторический момент как следствие революционного сдвига, легендарным олицетворением которого часто провозглашается дерзкий новатор Зигмунд Фрейд.
Мы постараемся придерживаться в этом вопросе золотой середины. Психотерапия не возникла беспредпосылочно в результате внезапного мировоззренческого слома, «коперниковского поворота» или прорыва. Отдельные ее составляющие вызревали постепенно, в ходе длительной эволюции, будучи инкорпорированы в другие социальные практики и системы знания, где они имели иной смысл и выполняли иные функции. Античные представления о гармонии душевных состояний, религиозные и эстетические практики катарсиса, сократический диалог и христианская исповедь, риторические приемы и методы наведения транса, техники убеждения и внушения, медитация, толкование снов и символов, исцеление книгой и искусством — все это современная психотерапия получила в наследство от прошлых веков и преобразовала, исходя из новых концептуальных оснований. Но все эти компоненты приобрели психотерапевтический (а не медицинский, религиозный, эстетический и т.д.) смысл и стали выполнять психотерапевтические функции только тогда, когда объединились внутри целостной системы профессиональной деятельности. Иными словами, благодаря новым взаимосвязям внутри системного целого исходные составляющие получили новые свойства. Совершенствовавшиеся веками психотехнические средства стали эффективными инструментами психотерапии лишь в рамках социальных отношений определенного типа. Потребовалась конкретная совокупность культурно-исторических условий, чтобы данная разновидность отношений и особая система деятельности (психотерапия как наука и профессия) начали интенсивно формироваться во второй половине XIX в. Каковы же эти культурно-исторические условия?
В качестве ответа на данный вопрос исследователи приводят обширный перечень процессов и явлений, включающий крушение укоренившейся в Средние века теоцентрической картины мира, ослабление роли Церкви, секуляризацию, идеологические сдвиги, инициированные Реформацией [10]; разрушение традиций и процессы модернизации, стремительный рост капиталистических форм производства, урбанизацию, социальное расслоение, усиление рационализма и сциентизма, моральный субъективизм, релятивизм и индивидуализацию в широком смысле, предполагающем провозглашение личности самостоятельной ценностью и культ «индивидуализированной модернистской самости» (self) [11; 13; 14].
Все перечисленные тенденции позволяют определить психотерапию как: 1) феномен преимущественно урбанической культуры, менее характерный для сельского образа жизни и традиционного уклада; 2) порождение западноевропейской цивилизации, которая, по сравнению с культурами Востока, характеризуется меньшей степенью регламентации и ритуализации индивидуальной и коллективной жизни; 3) профессию, сформировавшуюся в эпоху модерна в результате социокультурного кризиса, на фоне разрушения традиционных ценностей [3, с. 87].
Согласно Pолло Mэю, появление психотерапии в культуре носит циклический характер и происходит в кризисные периоды развития, «во времена распада и радикальных перемен» [13]. Аналоги современной психотерапии возникали на определенных стадиях развития любого общества [8, с. 73]. Например, в период упадка древнегреческой цивилизации «стоики, эпикурейцы, циники, гедонисты... — все философы — обратились к методам, весьма напоминающим современную психотерапию. Вместо проповеди идеалов истины, красоты и добра они стали говорить о том, как справиться с ночными кошмарами, или о том, как преодолеть нервозность, играя на лире перед большой аудиторией» [8, с. 74]. Любая культура, вступая в фазу роста вины и тревоги, стремится выработать собственные механизмы совладания с ними и порождает практики, берущие на себя психотерапевтическую функцию [8]. Иными словами, Р. Мэй причисляет к психотерапии такие антропологические практики, которые отличаются «направленностью на избавление от болезненных субъективных состояний, а не на следование объективным ценностям» [3, с. 82].
Ф.Е. Василюк так истолковывает ключевые культурологические идеи Р. Мэя. В стабильные периоды и периоды расцвета, например, в классической Греции, сознание обращено преимущественно к объективным ценностям истины, добра, красоты, и психотерапия не носит самостоятельного характера, а является элементом «синтетических функций драмы, религии, философии, танца и других форм общения» [8, с. 73]. В кризисные периоды мифы и символы более не могут обеспечить психологической стабильности, и возникает самостоятельная задача разрешать психологические проблемы как таковые. Появляются социальные фигуры, которые берут на себя эти функции. Они могут вести свое историческое преемство от фигур стабильной эпохи (например, стоики и эпикурейцы оставались философами) и сохранять прежние формы деятельности. Но содержательной доминантой их культурной активности становится поиск влияний на человеческую субъективность для обеспечения выживания в условиях, когда закрыты творческие, продуктивные, объективно-ценностные пути жизни [3, с. 82].
Для прояснения культурно-исторической «формулы» Ролло Мэя Ф.Е. Василюк использовал емкие понятия прямой и косвенной психотерапевтической функции. Наиболее заметна косвенная психотерапевтическая функция искусства и религии, но ни одна из сфер культуры не лишена ее полностью [3]. Любые формы культуры могут оказывать «позитивное» влияние на душевное состояние человека (успокаивать, ободрять, умиротворять, вдохновлять, укреплять, очищать). При этом само по себе изменение душевного состояния не является прямой целью ни агентов данной практики, ни ее реципиентов, хотя вполне может быть желанным следствием участия в ней. Прямую психотерапевтическую функцию выполняют коммуникативные действия с прямым намерением оказать другому человеку душевную помощь, поддержку, утешить, выразить сочувствие и т.д. Эта функция присутствует в культуре в «рассеянном» виде преимущественно в контексте дружеских, бытовых, семейных отношений [там же]. В свете предложенной Ф.Е. Василюком градации, идеи Р. Мэя сводятся к следующему тезису: психотерапия в стабильные периоды — косвенная социокультурная функция, а в кризисные — прямая. В эпоху кризиса создаются условия для кристаллизации психотерапевтической функции. В этих условиях происходит своего рода «психологическая мобилизация культуры», рекрутируются особые фигуры и даже целые культурные сферы для целенаправленного исполнения психотерапевтической функции, и вокруг них оформляется соответствующая идеология, отличающаяся субъективистским и психологизированным характером [3].
Экзистенциальный психотерапевт Ролло Мэй продолжает линию рассуждений философа-экзистенциалиста Мартина Бубера. В работе «Проблема человека» [2] Бубер применяет тот же принцип периодизации к антропологической проблематике в целом. «В истории человеческой, — пишет М. Бубер, — я различаю эпохи обустроенности и бездомности. В эпоху “обустроенности” человек живет во Вселенной как дома, в эпоху “бездомности” — как в диком поле, где и колышка для палатки не найти. В эпоху “обустроенности” антропологическая проблематика гармонично вписывается в рамки соответствующей космогонии, человек рассматривается как один из элементов единой космосистемы, занимающий в ней определенное место и играющий строго определенную роль. В эпоху “бездомности”, которой предшествует раскол в старом мировоззрении, распад привычной картины мира, вопрос о сущности и назначении человека обостряется, становится центральным и жизненно важным. Прежние ответы на этот вопрос оказываются неудовлетворительными, старые ориентиры утрачиваются, человек обнаруживает себя в чужом и незнакомом мире, его охватывают неуверенность, сомнения и страх» [2, с. 165].
Бубер анализирует взгляды на природу человека двух представителей подобных эпох: Аристотеля и Августина. У Аристотеля человек «перестает быть “проблематичным” и, так сказать, всегда говорит о себе в третьем лице, рассматривает себя лишь как некий “случай” и предстает своему самосознанию как “он”, а не как “я”. Это “вещь среди вещей, вид, объективно познаваемый наравне с другими видами”, и “обладатель собственного угла в мироздании”» [2, с. 165].
В противоположность Аристотелю, бл. Августин задается вопросом о сущности человека «от первого лица и в глубоком одиночестве»: «Он остался бездомным и одиноким даже после того, как нашел спасение в христианстве, учившем, что искупление уже совершилось» [2, с. 166]. С его уст срывается «упрек людям, которые восхищаются высокими горами, морскими волнами и свечением звезд, а собою “пренебрегают”, не дивясь себе» [2, с. 166]. По Буберу, «те периоды истории духа, в которых антропологическая мысль и поныне видит неисчерпаемый кладезь опыта, были временами, когда человеком владело чувство острого одиночества; тогда-то и нашлись среди людей самые, что ни на есть, одиночки, чья мысль дала наиболее зрелые плоды» [2, с. 164]: Блаженый Августин, Паскаль, Кьеркегор… список может быть продолжен.
Сопоставив взгляды Ролло Мэя (в трактовке Ф.Е. Василюка) и Мартина Бубера, мы приходим к двум положениям, требующим обоснования.
- В истории культуры человек сначала становится философской «проблемой для самого себя», а уже потом — психотерапевтической.
- Философские учения и антропологические практики не выполняют функцию психотерапии в древние века, но постепенно подготавливают для нее идеологическую и технологическую почву.
Подобно тому, как Блаженный Августин, Паскаль или Кьеркегор в периоды антропологической «бездомности» писали о хрупкости человека («мыслящий тростник» Паскаля), о неустойчивости его положения во Вселенной, так же пациент, приходящий в психотерапию, переживает период психологической «бездомности» и ощущает, хотя и не всегда осознает, зыбкость и шаткость собственного положения. При этом не каждому пациенту известно, что он не одинок, и что в истории культуры у него были великие предшественники, которые создавали язык для выражения его сущностных проблем и вырабатывали способы их осмысления. Сложившиеся в философии практики экзистенциальной рефлексии переходят в сферу психотерапии. Подобным образом техника интроспекции, усовершенствованная в лабораториях экспериментальной психологии XIX в., в XX в. становится едва ли не универсальным психотерапевтическим инструментом.
Гуманитарная культура формирует элементы дискурса и праксиса будущей психотерапии не только в кризисные эпохи. Так, уже упомянутый Аристотель, представитель эпохи «обустроенности», открыл и описал в своем трактате «Поэтика» эффект катарсиса — возвышения и очищения страха, сострадания и подобных им аффектов посредством античной трагедии. Спустя два с лишним тысячелетия его открытие, по-новому осмысленное в принципиально новом социокультурном контексте, было положено в основу психоанализа Зигмунда Фрейда и психодрамы Якоба Леви Морено.
Итак, выработанные культурой средства психотерапии [4, с. 197] появляются и оставляют след в социальной жизни задолго до оформления психотерапии в самостоятельную науку и профессию. И если экзистенциальная или, шире, антропологическая проблематика, во многом определяющая современный психотерапевтический дискурс, становится предметом философской рефлексии преимущественно «во времена распада и радикальных перемен» («бездомности», по М. Буберу), то собственно технические средства психотерапии, т.е. риторические приемы, рациональные, суггестивные, эстетические и проч. методы воздействия на психику, формируются и в периоды относительной стабильности.
В этом пункте рассуждений мы позволим себе не согласиться с нашими выдающимися предшественниками и оспорить предложенное Ф.Е. Василюком понимание психотерапевтических функций. Прежде всего, мы полагаем, что не любые «коммуникативные действия с прямым намерением оказать другому человеку душевную помощь, поддержку, утешить, выразить сочувствие и т.д.» [3] выполняют прямую психотерапевтическую функцию. Слова взрослого, успокаивающего ребенка перед сном, или слова соболезнования, произнесенные на похоронах, являются формой психологической помощи, но не психотерапией. Психотерапия предполагает разрешение некоторой жизненной проблемы, требующее значительных личностных изменений (в сфере поведения, мышления, самосознания и т.д.) или изменений в психологической системе (группе, семье); важнейшим условием возможности таких изменений служат особые специально выстроенные отношения. Эти отношения не складываются стихийно, но формируются осознанно, на основе знания, метода и профессиональной позиции, а их предпосылки вызревают в культуре веками, в ходе длительного исторического процесса, а не возникают на волне очередного (любого) социокультурного кризиса.
Психотерапевтическая функция не может, на наш взгляд, осуществляться в культуре в «рассеянном» виде «в контексте дружеских, бытовых, семейных отношений». При таком размытии фокуса утрачивается differentia specifica психотерапии. Указанные виды нетерапевтических интерперсональных отношений, напротив, препятствуют осуществлению этой функции, так как в них отсутствуют необходимая дистанция между участниками и нейтральность. Мать, помогающая своему чаду перенести заболевание, применяя меры медицинского и психологического характера, остается прекрасной заботливой матерью, но не становится при этом ни врачом, ни психотерапевтом. Жена, эмпатично поддерживающая мужа в горе, тоже не может претендовать на психотерапевтическую роль в силу профессиональной неподготовленности и особой эмоциональной вовлеченности.
Не любая психологическая помощь имеет отношение к психотерапии, и не любое психологическое воздействие носит психотерапевтический характер. Разговор со случайным попутчиком в поезде может заметно облегчить психоэмоциональное состояние. Означает ли это, что собеседник проделывает ту же работу, что и профессиональный психотерапевт? Ответ очевиден. Учитель или воспитатель в работе с детьми успешно используют различные психотехники, но не в психотерапевтическом, а в педагогическом ключе. Врач осознанно или бессознательно применяет вербальные и невербальные приемы с целью успокоить пациента перед операцией, но при этом он остается в поле сугубо медицинских задач. Режиссер театра или кино может оказывать психологическое воздействие на актера, чтобы добиться от него более глубокого погружения в роль, но воздействие это будет преследовать исключительно эстетические цели.
Иными словами, чтобы психотерапия стала возможной, недостаточно только построения помогающих или диалогических отношений и использования определенных психотехнических средств или психологических методов воздействия. Необходимо, чтобы участники психотерапевтического процесса заняли соответствующие этому формату позиции и последовательно придерживались их.
Приписывание психотерапевтических функций всевозможным социокультурным практикам может завести нас на ложный путь. Так, мы можем приписать харизматичному и располагающему к общению человеку суггестивный взгляд или успокаивающий психотерапевтический голос. Но даже если он внимательно, с добрым участием выслушает нас, и мы почувствуем при этом облегчение, одно лишь данное обстоятельство не сделает его автоматически нашим психотерапевтом. Не станет им и врач, священник или педагог, писатель, проникающий в тайны человеческой души, или музыкант, чье виртуозное исполнение возвышает наши чувства и приводит нас к катарсису.
Согласно той же логике, не был и не мог быть психотерапевтом и античный философ-стоик, учивший совладанию со страстями и преодолению страха смерти, или католический священник, что проповедью даровал утешение сердцам, а принимая исповедь, освобождал души от бремени прегрешений. Воздавая дань должного прошлому, мы можем не заметить, как спроецируем в него то, что нам привычно или желанно в настоящем. Элементы, заимствованные из древних систем знания и практик, наделяются психотерапевтическим смыслом, который исконно не был им присущ, и с этой современной «начинкой» возвращаются обратно в свои исторические первоисточники — такую ошибку мы рискуем допустить, озадачившись составлением генеалогии нашей профессии. Сократический диалог имеет непреходящее значение для психотерапевтической практики, но симпосий Сократа и его учеников, описанный Платоном в диалоге «Пир», по форме, задачам и смыслу не был неким старинным аналогом или прообразом групповой психотерапии.
Что же превращает взаимодействие двух или большего числа людей в психотерапевтический процесс? Совершиться такое превращение может лишь в определенном социокультурном контексте и в особой ситуации общения, в которой заранее установлены правила, рамки, этические принципы и предзадан характер позиционирования участников. Эта ситуация получила название психотерапевтической, и она имеет собственную структуру.
Психотерапевтическая ситуация — это такое соединение культурно-исторических и социально-психологических факторов и условий, которое делает возможными психотерапевтические отношения и психотерапевтический опыт.
Культурно-исторические условия, образующие единый контекст психотерапии, вызревали так же постепенно, как и отдельные компоненты ее дискурса и праксиса. И сегодня есть культуры, в которых эти условия еще не сложились, в силу чего развитие психотерапевтических практик в них крайне затруднено или даже невозможно.
Социально-психологические условия создаются и поддерживаются конкретными людьми — психотерапевтом и пациентом — в течение заранее оговоренного периода времени. Они включают распределение ответственности, четко сформулированные и принятые обеими сторонами договоренности, коммуникативные нормы и способы межличностного взаимодействия.
В структуре психотерапевтической ситуации выделяются следующие взаимосвязанные компоненты:
- позиция пациента;
- жизненная проблема пациента, требующая анализа, психотехнического способа разрешения или экзистенциального осмысления;
- позиция психотерапевта;
- отношения между пациентом и психотерапевтом, основанные на предварительных договоренностях и заранее установленных правилах взаимодействия;
- социокультурный контекст этих отношений, определяющий представления, ожидания, установки, цели и ценности их участников.
Позиция пациента не возникает в культуре внезапно, но является результатом длительной эволюции и претерпевает ряд закономерных изменений. Одной из культурно-исторических предпосылок этой позиции служит то, что Эрик Эриксон в работе «Молодой Лютер» определил, как «пациентство» [9, с. 32–33]. Это особая установка, имеющая не только клинический, но и религиозный, христианский смысл, на который указывал, в частности, Серен Кьеркегор в своих заметках о Мартине Лютере. Э. Эриксон так определил суть «пациентства»: «Серен Кьеркегор… написал в дневнике: “Лютер… это пациент исключительной важности для христианства”… Приводя высказывание вне контекста, я не хотел создать впечатление, будто Кьеркегор желает представить Лютера пациентом в терминах клинического “случая”; скорее он видел в нем архетипическое и чрезвычайно влиятельное воплощение религиозной установки (пациентства). Выбирая упомянутую формулу…, мы расширяем клиническую тему так, чтобы она охватила жизненный стиль пациента целиком, включая испытание страданий, крайнюю потребность во врачевании и, как добавляет Кьеркегор, “страсть к выражению и описанию собственных страданий”. Кьеркегор считал, что Лютер перестарался с субъективной “пациентной” стороной жизни и в зрелом возрасте не обрел “властного кругозора врача”» [9, с. 32–33].
Очевидно, что пациентство Мартина Лютера могло быть реализовано только в сфере религиозных поисков и не предполагало приносящего облегчение психотерапевтического вмешательства, попросту не было рассчитано на него. Эта историческая предпосылка психотерапии существовала в культуре в составе иной — религиозной практики, где имела иной смысл и выполняла иную функцию. Выражаясь метафорически, Лютер был личным пациентом самого Бога, и у него не могло быть другого целителя. Таков один из парадоксов эволюции психотерапии, о котором еще пойдет речь ниже: пациентская позиция (служащая важнейшим социокультурным условием, залогом психотерапии) начинает формироваться в культуре гораздо раньше, чем появляется особый социальный типаж и тип страдающей субъектности — пациент, которому адресована реальная психотерапевтическая помощь. Взывающее к пониманию и диалогу страдание веками дожидается своего психотерапевта.
Итак, в пациентстве, как его определяют С. Кьеркегор и Э. Эриксон применительно к Мартину Лютеру, сочетаются готовность к осмысленному испытанию страданий, глубокая потребность во врачевании и способность к самовыражению и самопознанию в страдании. Вопреки заложенному в самом слове значению «претерпевать, терпеть, сносить боль», пациентство подразумевает не только пассивную жертвенность и беспомощность, но и неистовое стремление к осмыслению и пониманию; оно активно взывает, сетует, вопрошает. Его архетипический прообраз — библейский Иов, а великие идеологи — уже упомянутые Блаженный Августин, Лютер, Паскаль, Кьеркегор. Но чего не хватает эриксоновскому «пациенту» Лютеру для того, чтобы стать пациентом в современном понимании этого слова? Обращенности к другому человеку как к помогающему субъекту и наличия психологической проблемы, разрешение которой возможно исключительно в плоскости межличностных отношений.
Потребовалась череда исторических метаморфоз, чтобы появился особый тип субъектности и способ позиционирования в культуре — пациент психотерапии. До его выхода на сцену друг друга эволюционно сменяли: одержимый или блаженный, ведомый потусторонними силами; изолированный и содержащийся в скотский условиях звероподобный безумец; умалишенный, освобожденный от оков и прочих «мер стеснения», опекаемый психиатрической системой и вместе с разумением лишившийся гражданских свобод. И только во второй половине XIX в. появляется собственно пациент как объект психологической заботы. В конце XIX в. происходит его первая встреча со своим психотерапевтом — в лице легендарного Зигмунда Фрейда, одна из главных заслуг которого состоит в том, что благодаря его усилиям произошла подготовленная всем предшествующим развитием помогающих практик «кристаллизация психотерапевтической функции» (в терминологии Ф.Е. Василюка). Фигура этого «культурного героя» эпохи модерна стала исторической «точкой сборки» долго вызревавшей психотерапевтической ситуации.2 В XX в. продолжилось развитие пациентской субъектности и произошло важное изменение позиции пациента — переход от «анализанта» З. Фрейда к «клиенту» К. Роджерса.
Параллельно эволюционировал и комплементарный образ помогающего субъекта. Прежде чем появился современный психотерапевт, эту вакансию занимали врачи, восстанавливавшие дисбаланс внутренних ликворов кровопусканием, исповедники, приносившие душам исповедовавшихся христиан облегчение и освобождение от грехов, и даже инквизиторы, разрешавшие все проблемы заблудших душ радикально — «очистительным» сожжением греховной плоти; наконец, первые психиатры, считавшие эффективным лекарством от безумия страх и практиковавшие «моральное лечение». Становление позиции психотерапевта, вероятно, началось с открытия раппорта Францем Антоном Месмером, описавшим этот феномен в терминах своей «магнетической» теории. Вопрос о психологическом влиянии врача на пациента актуализировался в тот момент, когда шотландский хирург, джентльмен науки Джеймс Брейд приступил к изучению явлений гипнотизма (1843). Но в качестве фактора эффективности психотерапевтического процесса позиция психотерапевта сделалась предметом научной рефлексии только в трудах Зигмунда Фрейда, посвященных технике психоанализа.
Психотерапевтическая профессия складывается относительно поздно, в чем заключается исторический парадокс, особенно, учитывая то обстоятельство, что человек уже в глубокой древности обнаружил неиссякающий источник страданий в собственной душе. Потребовалась длительная, многовековая эволюция идей и социальных практик, чтобы на сцене душевного страдания появилась фигура Психотерапевта в качестве значимого Другого, диалог с которым целителен как таковой.
Что приводит пациента к психотерапевту и становится связующим звеном, залогом отношений между ними? Жизненная проблема, на основе понимания которой определяются цели психотерапии и формулируется психотерапевтический запрос. В приведенной выше структуре психотерапевтической ситуации это второй необходимый компонент, который можно развернуто определить, как наличие сущностной или экзистенциальной проблемы, для разрешения которой у пациента нет освоенных алгоритмов, привычных способов, доступных ресурсов, внешних и внутренних средств.
В упомянутой ранее статье Ф.Е. Василюк утверждает, что категория «проблема» столь же значима для психотерапии, как категория «болезнь» для медицины, при этом первая, несмотря на высокую частоту ее использования, остается практически неразработанной в специальной психотерапевтической литературе. Далее Василюк указывает на удивительный факт: «Похоже, что в совсем недалеком прошлом, каких-нибудь 150 лет назад, у людей вовсе не было “проблем”. Жизнь героев Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского могла быть насыщена страданиями, утратами, преступлениями, скандалами, ревностью, разрывами, муками совести, однако невероятно услышать из их уст: “Знаете ли, сударь, у меня проблема”. Это не просто лингвистическая интуиция: в основных романах Толстого и Достоевского слово “проблема” не встречается ни одного раза!» [3, с. 81].
Таким образом, важным поворотным моментом в эволюции психотерапии и в развитии пациентской субъектности стало появление пациента как носителя проблемы. До этого момента пациент представал в узко-медицинском понимании как пассивно страдающий субстрат болезни, которая живет в нем независимой от него жизнью. Однако осознание некой совокупности внешних и внутренних условий собственного существования, как личной жизненной проблемы предполагает индивидуальную ответственность пациента. То, что пациент признает своей проблемой, становится в психотерапии задачей, решение которой требует использования определенных рефлексивных и психотехнических средств. Психотерапия как помогающая социальная практика последовательно вырабатывает такие средства на протяжении всей своей обозримой истории.
Продолжая параллель с русской классической литературой, Ф.Е. Василюк довольно точно обозначает тот временной интервал, в который происходит указанная исторически значимая трансформация пациентской субъектности. Он утверждает, что невозможно представить Родиона Раскольникова или Ивана Карамазова в кабинете психотерапевта с некой «личной проблемой», а вот у персонажа чеховской «Дамы с собачкой» Гурова «уже вызрела острая потребность поговорить по душам и о душе, о жизни, о себе, о своей любви и растерянности, чтобы осмыслить, что с ним происходит» (Василюк). Младший современник З. Фрейда А.П. Чехов опубликовал рассказ «Дама с собачкой» в конце 1899 г.; тогда же основатель психоанализа подготовил к публикации «Толкование сновидений».
Иными словами, носитель психологической проблемы появляется, — на что указывает нам художественная литература, — в то самое время, когда зарождается психоаналитическая практика. Поначалу личная проблема не осознается, но лишь мучительно смутно ощущается пациентом, и для ее прояснения требуется анализ, точнее, аналитик. Так пациент становится анализантом, сочетающим в себе качества пассивности и активности: он в силу незнания причин собственного душевного неблагополучия зависим от компетентности и мастерства помогающего специалиста и вместе с тем сознательно и ответственно включен в процесс своего исцеления.
По мере развития психотерапии ее пациент становится «проблемой для самого себя» — проблемой, требующей анализа, психотехнического способа разрешения или экзистенциального осмысления. И в этом его сущностное отличие от пациента медицины, как носителя болезни. «Мыслящий тростник» Блёза Паскаля перестает быть только отвлеченной философской метафорой человека и воплощается в особой форме субъектности, оказавшись на кушетке психоаналитика или в кабинете его коллеги экзистенциального направления. Там страдающий субъект одновременно осознает свою хрупкость и обретает достоинство благодаря рефлексии нового типа, актуализируемой в присутствии и при помощи психотерапевта.
Антропологическая проблематика, составляющая предметное поле западноевропейской философии, переполняющая «Размышления» Марка Аврелия, «Исповедь» Аврелия Августина и «Мысли» Блёза Паскаля, делается предметом психотерапевтического диалога. Одиночество, выбор, смысл жизни, страх смерти, утрата, обуздание страстей, неизбежность страданий — то, о чем философ-стоик писал руководство для зрелых, склонных к здравому размышлению умов, чему посвящал свои труды датский затворник Серен Кьеркегор, — теперь обсуждается применительно к конкретной биографии в специально отведенном месте, в специально установленное время двумя людьми, которые ради этого регулярно встречаются под покровом психотерапевтической тайны и один из которых призван помочь другому в разрешении его личной проблемы.
По мнению Ф.Е. Василюка, категория личной проблемы является необходимым антропологическим условием феномена психотерапии как такового. «Страданий и болезней совершенно недостаточно для распространения психотерапии, для этого нужны именно “проблемы”. Болезнь или ее проявления должны стать для человека личной жизненной проблемой, и лишь постольку может состояться психотерапия как реальный диалогический процесс, в котором со-участвуют две личности». Василюк подытоживает свои рассуждения лаконичным афоризмом: вход в город психотерапии может быть только один — через ворота «личной проблемы» [3].
Теперь мы можем сформулировать предварительные выводы. Наряду с эволюционным становлением двух типов субъектности — страдающей (пациентской) и помогающей — постепенно эволюционируют рефлексивные и психотехнические средства будущей психотерапии. Первые призваны обеспечивать осмысление экзистенциальной проблематики пациента и складываются в рамках различных философских и психологических школ. Вторые становятся инструментами воздействия на психику, личность и поведение пациента и первоначально разрабатываются шаманами, античными и арабскими врачами, риторами древности, священниками и представителями других социальных практик. В соответствии с тем, как определены и отрефлексированы в конкретной культуре типовые жизненные проблемы человека, вырабатываются психотехнические способы их разрешения.
При описании исторических этапов развития психотерапии принято освещать либо последовательную смену представлений о душе, ее природе и строении, либо поворотные моменты в исследованиях нервной системы и ее влияния на психику. Таким образом история психотерапевтической науки и практики незаметно подменяется историей психологии или физиологии мозга и делается это как будто вполне обоснованно, ведь психотерапия — это забота о душе, а мозг является материальным субстратом души. Но в свете вышеизложенного следует также задаться вопросом о том, как в ходе исторического развития определяется проблематика психотерапии, формируются ее риторические, диалогические, рефлексивные и психотехнические средства (инструменты), складываются новые типы субъектности и соответствующие им позиции пациента и психотерапевта, наконец, в силу каких социокультурных предпосылок становится возможным особый формат исцеляющих отношений.
«Быть может, прежде губ уже родился шепот», — написал поэт Осип Мандельштам по другому поводу. Сколь многое, значимое для психотерапии и предопределившее ее появление, было сказано, осмыслено и сделано, прежде чем она родилась в качестве самостоятельной науки, социальной практики и профессии. Что унаследовала психотерапия от других сфер культуры и от более ранних исторических эпох? Нам предстоит долгий поиск ответов на эти вопросы. Культурно-исторические процессы, в ходе которых сложились социальные условия и идеологические предпосылки возникновения психотерапии, требуют кропотливых междисциплинарных исследований.
Отвечая на вопрос о том, что почерпнула психотерапия из безграничного поля культуры, что она унаследовала от других дискурсивных практик и чем была инициирована, мы в итоге приходим к вопросу о культурной миссии самой психотерапии. Предметом отдельного изучения и анализа может стать то влияние, которое психотерапия оказывает на различные области культуры и социальной жизни. По мере своего развития она постепенно становится самостоятельной исторической силой. Ею определены многие важные социокультурные процессы как бурного XX века, так и нынешней эпохи.
Американский социальный психолог Кеннет Джерджен [5] отмечал, что психологическое исследование в известной степени становится историческим. Факты относительно психической и социальной природы человека, добытые психологами, исторически трансформируются под влиянием научных теорий, которые их объясняют. Эти теории, в особенности наиболее авторитетные и признанные среди них, становятся факторами и агентами исторических изменений. Например, новое понимание закономерностей, причин и мотивов человеческого поведения, сформированное психологами и ставшее общественным достоянием, оказывает влияние на характер этого поведения в различных социальных группах, так или иначе соприкасающихся с психологией. Сказанное справедливо и для психотерапии.
То, что было предугадано, открыто или установлено в лабораториях и научных центрах, клиниках и частных психотерапевтических кабинетах, со временем находит отражение в зеркале социальной репрезентации, своеобразно преломляется в системе представлений, убеждений и установок, разделяемых людьми из разных культурных сообществ. Соответственно, психотерапия имеет две масштабные истории: внутреннюю историю собственного становления, легитимации и распространения, и внешнюю, позволяющую отследить ее влияние на предмет изучения и заботы — человека и, шире, на культуру и общество.
Сноски
1 В литературе, посвященной этому вопросу, можно найти интересные размышления о «прототипах психотерапии» [4, с. 177], ее «гомологах» [6, с. 146], т.е. о практиках и сферах социальной жизни, имеющих с ней сущностное сходство, а также о «разлитых» в повседневной жизни аналогах психотерапевтического опыта — «того, что может если и не исцелять, то, по крайней мере, облегчать душевное состояние человека, не предполагая при этом какой-либо осознанной психотерапевтической задачи» [6, с. 149]. Мы предпочитаем говорить о культурно-исторических предпосылках психотерапии и ее инструментах, выработанных конкретной культурой.
2 «Человеку модерна понадобился посредник во встрече с самим собой, своей жизнью, своим сознанием. Такой, который был бы посвящен в тайну бессознательного и был бы способен выразить ее рационально, научно. Психоаналитик как раз и оказался таким посвященным, новым служителем нового закона» [3]; «…в западноевропейской социокультурной матрице сформировалось особое место для фигуры психоаналитика. Психоаналитик не просто пришел на готовое место, он один из главных “действующих лиц” и “исполнителей” культуры модерна» [там же].
Литература
- Ассоциативная психология: Г. Эббингауз. Очерк психологии. А. Бэн. Психология. — М.: АСТ, 1998. — 528 с.
- Бубер М. Проблема человека // Бубер М. Два образа веры. — М.: Республика, 1995. — С. 157–232.
- Василюк Ф.Е. Культурно-антропологические условия возможности психотерапевтического опыта // Культурно-историческая психология. 2007. Том 3. №1. С. 80–92.
- Гриншпун И.Б. Введение в историю психотерапии // Консультативная психология и психотерапия. — 2015. — №2. — С. 175–207.
- Джерджен К. Социальная психология как история // Социальная психология: саморефлексия маргинальности. Хрестоматия. — М.: ИНИОН РАН, 1995. — С. 23–50.
- Копьёв А.Ф. О прототипах психотерапевтического опыта // Труды по психотерапии и психологическому консультированию. Выпуск 1. — М.: МГППУ, ПИ РАО, 2007. — С. 146–158.
- Кун Т. Структура научных революций. — М.: АСТ, 2020. — 320 с.
- Мэй Р. Терапия сегодня // Эволюция психотерапии: В 4 т. Т. 3. Экзистенциально-гуманистическая психотерапия. — М.: Независимая фирма «Класс», 1998. — С. 72–84.
- Эриксон Э. Молодой Лютер: Психоаналитическое историческое исследование. — М.: МЕДИУМ, Московский философский фонд, 1996. — 508 с.
- Юнг К.Г. Психология и религия // Юнг К.Г. Психология западной религии. Сборник / Пер. с нем. В. Желнинова. — М.: АСТ, 2023. — 352 с.
- Cushman Ph. Constructing the Self, Constructing America: a Cultural History of Psychotherapy. — Cambridge, MA: Perseus Publishing, 1995. — 448 p.
- Digby A. Madness, Morality and Medicine: A Study of the York Retreat, 1796-1914. (Cambridge History of Medicine). — New York: Cambridge University Press, 1985. — Pp. XVII, 323.
- May R. Foreword // D.K. Freedheim (ed.). History of Psychotherapy — A century of change. —Washington, DC: APA, 1992. — P. 20–27.
- Woolfolk R.L. The Cure of Souls: science, values, and psychotherapy. — San Francisco: Jossey-Bass, 1998. —192 p.
Фото Ф.Е. Василюка: Литрес.


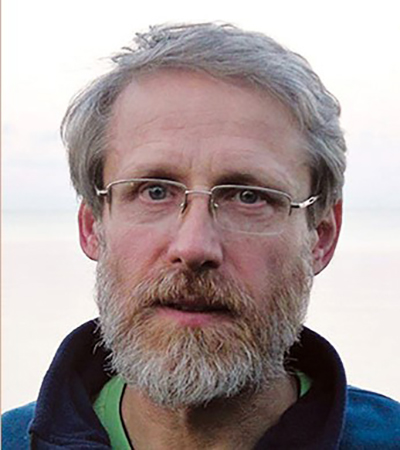
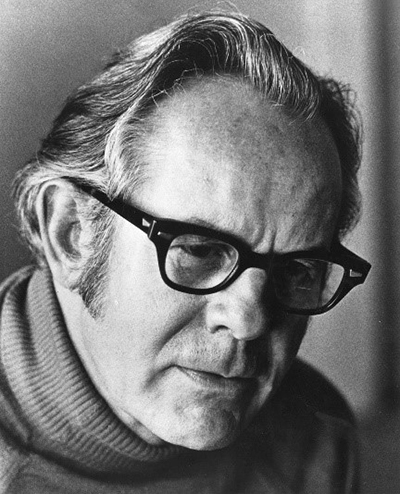
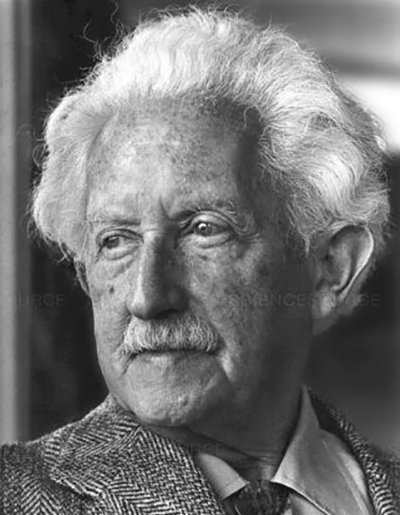
























































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать