
В Приказе Минздрава России от 30 июня 2022 г. №453н «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями» сказано о психосоциальной реабилитации (в амбулатории или стационаре) для таких тяжёлых больных.
Социально-психологическая реабилитация тяжёлых хронических больных шизофренией (их посильное восстановление для менее мучительной жизни среди людей, в обществе) включена в терапию этих пациентов. Одна из основ этой реабилитации, как известно, — психотерапия. А «значимая роль в этой области на сегодняшний день принадлежит тем методам, в основе которых лежит креативный психотерапевтический механизм, т.е. использование творческой активности пациентов, что, по-видимому, связано с присущей многим пациентам, страдающим расстройствами шизофренического спектра, спонтанной склонностью к творческой деятельности» [6, с. 1098–1099].
Сотрудники нашей кафедры психотерапии и клинической психологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО, Москва) помогали тяжёлым больным шизофренией, как и другим пациентам, в течение многих лет. Помогали уже вне психотического приступа, в сотрудничестве с психоневрологическими диспансерами по месту жительства пациентов. О душевных переживаниях, особенностях нашей психотерапии в ряде этих случаев уже рассказывалось [1, с. 422–431; 2; 3; 4].
По МКБ-10 это — «шизоаффективный психоз депрессивного типа». Неполная ремиссия. Клинически-классически, по Андрею Владимировичу Снежневскому (1904–1987), это — шубообразная шизоаффективная шизофрения с приступами помрачённого сознания (шубами), оставляющими после себя личностный «сдвиг» в виде тягостного упадка, застывшести душевной жизни.
В группах творческого самовыражения (в психотерапевтической гостиной, в нашей кафедрально-диспансерной амбулатории), в индивидуальных беседах с врачом, на лекциях пациенты рассказывали, как чувствовали-понимали различие между действием лекарств и терапии творческим самовыражением (ТТСБ). Простите, что коротко повторю опубликованное прежде [1, с. 425–426].
В психозе помогают лишь лекарства, «хочется быть с ними», чтобы «притупилась жуть как бы пребывания в ином мире, чтобы держаться за реальность». Чтобы чувствовать «путь из ада вверх, к выходу из психоза». «Но после приступа страдаешь от того, что не чувствуешь себя всё же прежним собою. Здесь лекарства бессильны. Спасает только душевная помощь. Но не логически-объяснительная, не психотерапевтически-техническая, а с отечественной культурой, как-то взаимодействующей с родной природой». «Такая помощь невозможна за границей». Лекарства, может быть, лучше помогали бы в другой, «более развитой стране», как и хирургическая операция, «но духовная культура с природой серьёзно помогут только у нас». Помогут быть более собою, «надёжнее ощущать свою душевную состоятельность», то есть то, что «как-то состоялся духовно в жизни». После «психического ада», когда связи с реальным миром понемногу восстанавливаются, после первого уже шуба, остаётся «ослабленный ужас», «терпимое переживание ожидания катастрофы». И тут ТТСБ существенно помогает выживать тем, что способствует «превращению этого ужаса в тепло индивидуальности». Рано или поздно «в процессе жизни в методе возникает «ощущение подшёрстка, который мягко греет». «Теперь ты уже более или менее Человек, а прежде шерсть годы висела с чувством больной оголённости под шерстью» [1, с. 425–426].
Отмечу, что к целостной ТТСБ (с постижением характеров, с клиническим театром-сообществом и т.д.) готовы лишь сложные, более или менее одарённые глубиной души пациенты. Менее одарённым малодоступно постижение духовной культуры, природы с проникновением в характеры. Здесь важно применить тоже клиническую терапию творчеством, но более доступную для них.
***
Инженер по специальности, более доступно, но проникновенно помогающий тяжёлым пациентам такого рода, не хочет скрывать своего настоящего имени, как и того, что серьёзно болен, как и они, что время от времени лечится в психиатрической больнице, имеет II группу инвалидности по душевному заболеванию (смолоду). Лечится он в диспансере по месту жительства и одновременно много лет лечился на нашей кафедре. Но буду его называть просто Помогающий. Знаю его более 40 лет.
В 1998 году он помогал подобным себе «послешубным» больным в течение полугода. То одним, то другим. На общественных началах, в одном из отделений Преображенской больницы (Психиатрическая больница №3 им. В.А. Гиляровского в Москве). Клиническая база нашей кафедры в ту пору. Помогал в комнате отделения под моим врачебным «присмотром», на моих глазах, будучи, как и «его пациенты», депрессивно-застывшим, но уже с упомянутым выше «ощущением подшёрстка». Показывал на экране слайды картин художников России, свои фотографии русской природы, включал русскую музыку. Читал вслух тихо, но всей душой стихи российских поэтов и тоже близкие ему места из классической нашей прозы. Всё это не только дышало родной культурой и природой, но и применялось особенным простым образом (смотри и слушай). Лишь так и возможно было применить ТТСБ для тяжёлых пациентов, «под лекарствами», ещё без «чувства подшёрстка», с некоторой нередкой здесь «замутнённостью сознания слабыми остатками-обрывками чужого нереального мира». «С чувством неприятной отделённости от реального мира». Действовать сложнее в духе ТТСБ было практически невозможно. Помогающий, зная об этом и по своему опыту, был убеждён, что так здесь и нужно сейчас делать, чтобы помочь пациентам отчётливее почувствовать себя собою и душевно посветлеть. При этом для него важно было открывать пациентам непременно близкое ему самому, Помогающему. Для того чтобы этим самому обретать вдохновение: светлую встречу с самим собою, с углублением этой встречи. Он сам при этом вдохновеннее, глубже возвращался в свою индивидуальность, стойкую реальность — из переживания неуверенности в реальности происходящего с ним. Скупо пояснял пациентам, что именно в каждом случае (в картине, стихотворении, мелодии) для него близко и потому посветляет душу. Посветление (вдохновение) невольно передавалось пациентам (пусть не всем, но многим). Пусть малозаметно. Они, неподвижные, «застывшие» прежде, начинали немного переговариваться между собою о том, что видели, слышали. От занятия к занятию делались заботливее друг к другу. Помогающий записал потом следующее. «Пациенты поначалу жмутся друг к другу, а потом возникает атмосфера познания, духовно друг к другу приближаются. Но важно читать, показывать, включать только созвучное себе самому, что для тебя самого имеет целебный смысл. Только так можно обогреть, принять в себя. А это главный смысл».
***
Что же происходило тогда с пациентами благодаря Помогающему в этой больничной комнате? Почему многие тяжёлые пациенты, как они сообщали, понемногу возвращались в этой атмосфере в свою более живую, стойкую индивидуальность-реальность из депрессивно-застывшей нереальности? Для меня это было тогда и есть сейчас, несомненно, лечение вдохновением: встречей с самим собою, посветлённым, освобождённым более-менее от болезненных «нереальных» расстройств, в атмосфере родной культуры и природы. Встреча с благодарностью к Помогающему, который помог эту встречу устроить. Пациенты невольно сравнивали своё отношение к происходящему (картины, стихи и т.д.) с отношением Помогающего. В этом сравнении они становились яснее самим себе, чувствовали, осмысляли именно свою непохожесть или похожесть на Помогающего, свою самобытность, самособойность (идентичность) [5]. Сам Помогающий называет эту помощь воздействием, помогающим обрести пациентам (хотя бы на время, пока) «чувство стойкой состоятельности своей души». «Не было никакой состоявшейся душевной жизни, была застывшая мутная каша, а теперь я — Человек, потому что знаю, кто я есть, я состоялся».
В сущности, был открыт приём помощи внутри метода (терапия творческим самовыражением) (ТТСБ)). Приём, показанный тяжёлым пациентам с хронической приступообразной шизофренией, о которых шла речь выше (с неполной ремиссией). Больным, не способным к более сложной помощи в ТТСБ, но стремящимся к жизненной реальности, к целительному творческому вдохновению, к родной, отечественной психотерапии. К тому, чтобы чувствовать себя Человеком в своей стране среди своей культуры и природы.
***
Прошли годы. Кафедрально-диспансерная амбулатория в прежнем, целостном, виде, по многим причинам, уже не существует. Сам от болезненной старости не работаю уже 8-й год. Наши прежние пациенты лечатся только в диспансерах по месту жительства и по временам в психиатрической больнице. Но многие из них стихийно образовали небольшие «группы поддержки», «вспоминающие» прежнюю нашу психотерапевтическую жизнь. Встречаются, переговариваются гаджетами, по телефону, вспоминают кафедральную амбулаторию: гостиную, гипнотические сеансы, клинический театр-сообщество. Тяжёлые пациенты получают предупреждающие приступы диспансерные инъекции-депо. Но наша прежняя психотерапевтическая помощь постоянно живёт в их душе. Даже порою в больнице, в приступе, светится пятно надежды. «Выпишут — и снова будем всё наше вспоминать и делать. Встречаться, рассматривать листья деревьев: Ясень это или Вяз? Яснотка или Двудомная крапива? Сурепка или Пижма? Пушкин это стихотворение написал или Некрасов?» Или соберёмся вместе — оживить душу искренностью друг друга, как помогал нам наш Помогающий.
Помогающий уже не выходит из дома, постарел. Переговаривается с нами по телефону. Живёт один в своей квартире. Опекун ходит в магазин. Родственников не осталось. Но в душе светлая убеждённость о состоявшейся, своей жизни-неповторимости. «Это помогает нести бремя жизни». «Чувство личностной состоятельности своей». Уже 5 лет не было приступов. «По временам только чуть наклёвываются». Психиатр диспансера навещает его. Помогающий записывает о себе коротко в тетрадь. Например такое. «Я чую жизнь». «Женское дивно». «Я зародился очень давно». «Человек — потрясение». « Солнце дремлет (зима)». «Едкая вещь — душа. Сызмальства». «Я обращён к людям».
С Помогающим переговариваемся по телефону. Вспоминаем ушедших из жизни «наших». Как повторяли они, что живут не только лекарственной защитой от психоза, но и теплом вдохновения среди родной культуры и природы. «А Джамиля (имя вымышленное) ещё работает, ездила к родственникам, сделала фотографии сибирских мускулистых сосен в лесу. Там даже берёзы совсем не застенчивые».
***
Творческое самовыражение и в тяжёлых случаях есть хотя бы крошечное, но целительное выявление духовной индивидуальности. Неразлучной с родной культурой и природой. В том числе, при неполной ремиссии. Психотерапевт и клинический психолог могут оказывать эту существенную помощь страдающей душе — и в диспансере, и в стационаре.
Литература
- Бурно М.Е. Клинический театр-сообщество в психиатрии (руководство для психотерапевтов, психиатров, клинических психологов и социальных работников). – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2009. – 719 с.
- Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод). - 4-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2012. – 487 с., ил.
- Бурно М.Е. Опыт реабилитационной психотерапии шизофрении (Терапия творческим самовыражением М.Е. Бурно – ТТСБ) // Психотерапия. 2020. № 4 (208). С. 42–70.
- Бурно М.Е. Первый шаг в Терапию творческим самовыражением // Психологическая газета, 20 апреля 2021 г.
- Бурно М.Е. Коротко о терапии творческим самовыражением (ТТСБ) // Психологическая газета. 14 апреля 2022 г.
- Васильев В.В., Каменщиков Ю.Г., Каменщиков А.Ю., Молчанова А.В., Дерягин М.А. Опыт социально-психологической реабилитации пациентов, страдающих расстройствами шизофренического спектра, с использованием метода терапии творческим самовыражением М.Е. Бурно // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2024. № 9. С. 1097–1107.

.jpg)




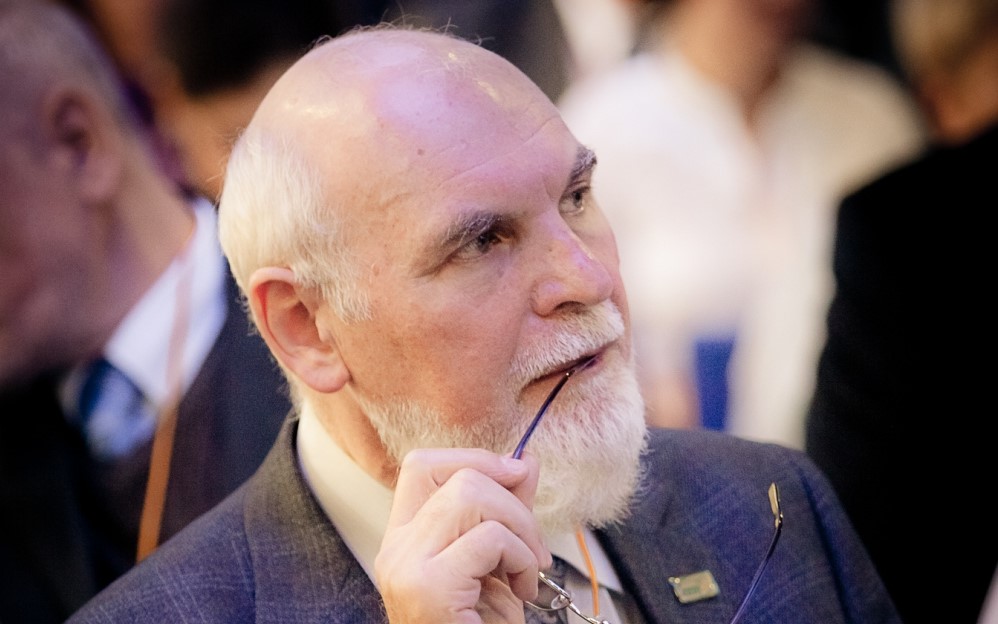

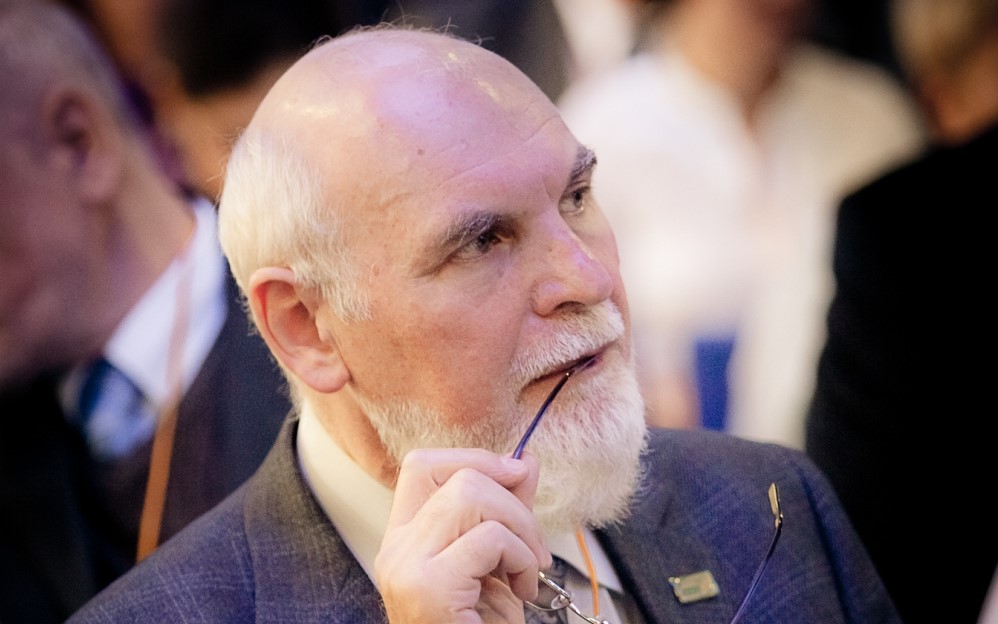
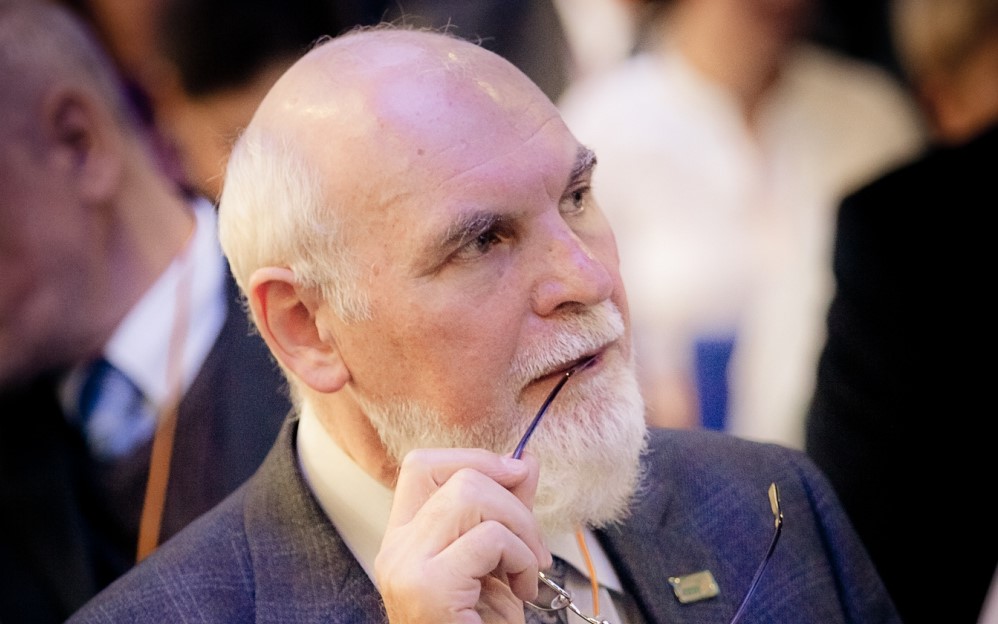
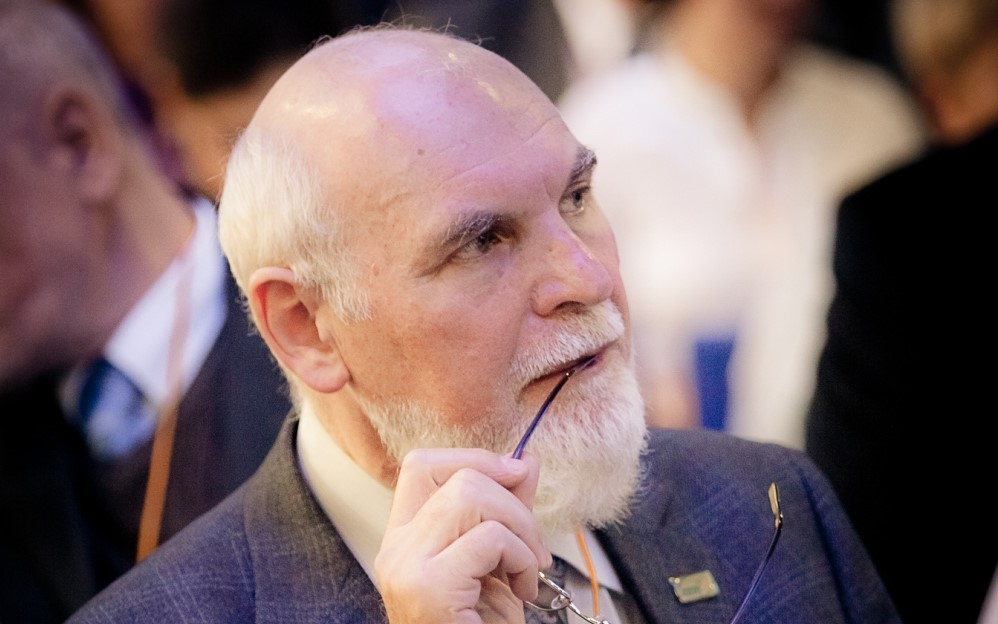














































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать