
Введение в проблему
Анализ демографической ситуации в мире позволяет наблюдать стремительный рост доли пожилых людей в общей численности населения, в том числе в связи со спадом рождаемости и увеличением продолжительности жизни. По прогнозам, к 2055 году доля лиц пожилого и старческого возраста в России будет составлять около 40% [11, с. 38]. Однако ускоренный ритм жизни, тенденции индивидуализации, обособления, кризис традиционной многопоколенной формы семьи актуализируют проблему социальной стигматизации пожилых людей. Данная проблема, связанная с обеспечением обществом интересов пожилых людей по остаточному принципу, является исторически и эволюционно обусловленной, связанной в первую очередь с ориентацией человека как биологического вида на выживание потомства. Старение в контексте естественного отбора связано с ослаблением особи, с возможностью ее вытеснения более молодыми и сильными представителями вида.
Формирование особого отношения к возрасту и процессу старения связано с развитием человека как социального существа, живущего в определенном культурном поле. В процессе эволюции человека пожилые люди стали восприниматься как душа социальной группы, носители знаний, мудрости, традиций [8]: «старый конь борозды не портит», «молодой — на службу, старый — на совет», «седина в бороду — ум в голову». Их главной задачей было сохранение знаний и их передача молодому поколению. В отсутствие других способов обучения, кроме непосредственной передачи знаний, социальный статус пожилых людей у большинства народов был чрезвычайно высок, что нашло отражение в концептах и архетипах. Так, архетип мудреца, доброго волшебника априори предполагает пожилой возраст. Обращение к предкам, их почитание, а в языческий период и обожествление также отразилось в социальных практиках в отношении пожилого населения. Вместе с тем дихотомия «молодой — старый» повсеместно приводила к возникновению противоречий и стремлению молодого поколения отстоять свою независимость и способность самостоятельно принимать решения как в частной, так и в общественной жизни. Устойчивость социальных институтов, таких как община, многопоколенная семья, род, преемственность поколений сдерживали социальную стигматизацию пожилых людей на психологическом и культурном уровнях, однако в отсутствие единой системы поддержки и социальной помощи была распространена социально-экономическая стигматизация, когда пожилые люди во многих странах оказывались на грани выживания, если не смогли своевременно создать прочные семейные связи, которые обеспечивали бы им поддержку и материальное обеспечение. На сегодняшний день к социально-экономической стигматизации, несмотря на наличие пенсионного обеспечения, добавилась стигматизация социально-психологическая и социально-культурная. В соответствии с данными доклада ООН, опубликованного ВОЗ в марте 2021 г., каждый второй человек в мире имеет эйджистские взгляды [18]. Также по оценкам ВОЗ, причиной 6,3 млн случаев депрессии во всем мире является эйджизм [18].
Катализаторы развития стигматизации пожилых людей в современном обществе
Как выше уже было отмечено, катализаторами развития стигматизации пожилых людей являются:
1. Кризис традиционных институтов, в том числе института многопоколенной семьи и ее вытеснение нуклеарной семьей, отказ молодых людей от поддержания родственных связей [8], а также отказ пожилых людей от поддержания отношений на новых условиях. Так, например, увеличивается количество конфликтов, связанных с тем, что молодые родители настаивают на том, что бабушки и дедушки при общении с внуками не нарушали принятых в семье правил. В свою очередь, бабушки и дедушки могут настаивать на том, что именно их модель воспитания является более правильной и эффективной. Столкновение двух семейных систем может привести к конфликту и длительному кризису, в то время как общение с детьми и внуками является одним из основных компонентов в жизни многих пожилых людей.
2. Развитие технологий и цифрового мира, доступность знаний и информации, переизбыток информации. В результате произошедшей технологической и цифровой трансформации, формирования экономики знаний значительная часть знаний и опыта предыдущего поколения обесценилась под влиянием изобилия доступной информации. Молодые люди предпочитают советоваться по бытовым и рабочим вопросам, отношениям, здоровью, воспитанию детей с экспертами и специалистами или обращаться в тематические сообщества, изучать тематические материалы и ресурсы. В то время как ещё во второй половине прошлого века советы от пожилых членов семьи были важным ориентиром при принятии решения. Данная тенденция отражается и в масштабных вопросах, и в простых бытовых ситуациях: при поиске рецепта молодым людям удобнее воспользоваться интернетом, чем позвонить родителям. Отметим также, что низкая цифровая компетентность большинства пожилых людей привела к парадоксальному, не знакомому ранее социальному явлению: молодые учат пожилых. Подобная инверсия ролей словно лишает людей пожилого возраста их значимого преимущества — способности передавать опыт.
3. Философия индивидуализма и потребительского общества. Данный подход предполагает потребительское, утилитарное отношение к человеку. Поддерживаются только выгодные для себя связи и отношения. Отношения, в которых индивид не может получить удовлетворения потребностей, рассматриваются как опустошающие, токсичные, ненужные. Чувство долга по отношению к родителям может интерпретироваться как навязанный интроект или иррациональное долженствование. В такой парадигме пожилые люди рассматриваются как люди с истощаемыми ресурсами, особенно если они уже завершили свою карьеру и вышли на пенсию, соответственно, сотрудничество с ними в большинстве случаев рассматривается как невыгодное. М.Х. Килясханов отмечает, что индивидуалистский ценностно-мировоззренческий базис является характерной чертой инновационного общества, как и деактуализация родового аспекта в пользу системы внешних отношений. По мнению автора, переход от традиционного общества к инновационному стал катализатором для развития социальной стигматизации пожилых людей [8, с. 161]
4. Культ молодости и успеха. Исследование И.К. Мухиной, посвященное национально-культурным представлениям о молодости и старости, подтвердило существование в современной России культа молодости и сращивание понятия «молодость» с такими концептами, как «красота», «успех», «активность», «решительность». Молодость воспринимается как неотъемлемая составляющая социального успеха, в то время как концепт старости на сегодняшний день мало соотносится с мудростью, но больше с беспомощностью, слабостью [12, с. 298-299]. К аналогичным выводам приходит И.Г. Рябцева, отмечая, что «ассоциирование молодости со счастливой жизнью и успешной самореализацией вызывает стремление продлить ее как можно дольше, сделать вечной» [17, с. 122].
5. Социально-экономические факторы. Увеличение доли пожилых людей в обществе повышает нагрузку на системы социального обеспечения, здравоохранение. Выплата пенсий, льгот, материальной помощи пожилым людям создает дополнительную нагрузку на государственный бюджет. Вместе с тем активность и трудоспособность пожилых людей является для экономики ещё более серьезным вызовом. Так В.Н. Барсуков отмечает, что пенсионеры с каждым годом активнее конкурируют с молодыми людьми на рынке труда, при этом их зарплатные ожидания ниже, а устойчивость к неблагоприятным условиям выше. В результате растет безработица среди молодых людей трудоспособного возраста. Аналогичная ситуация наблюдается во всех странах с развитой экономикой, высокой рождаемостью и большим притоком мигрантов [2, с. 6].
Понятие и формы социальной стигматизации пожилых людей
Одним из первых обозначив проблему социальной стигматизации пожилых людей (эйджизма), Р.Н. Батлер определил её как совокупность трех компонентов: когнитивного, эмоционального и поведенческого [19]. Когнитивный компонент представляет собой совокупность предрассудков, стереотипов, когнитивных искажений в отношении пожилых людей. Эмоциональный компонент предполагает предвзятое отношение к пожилым, в том числе страх, жалость, сочувствие, отвращение, брезгливость, раздражительность. Р.Н. Батлер видел причину такого отношения в подавленной тревоге некоторых людей в связи с нежеланием признавать факт собственной смертности и старения [19]. Нежелание соприкасаться с этой частью человеческой жизни приводит к нежеланию взаимодействовать с ее носителями, словно старость, как инфекционная болезнь, может перейти и на них тоже.
Поведенческий компонент эйджизма связан с совокупностью дискриминирующих социальных практик в отношении пожилых людей, которые могут быть связаны с традициями, а могут быть закреплены на законодательном уровне или подразумеваться общественной моралью. Все три компонента поддерживают и усиливают друг друга. И.А. Захарова с коллегами говорят о трех основных механизмах социальной стигматизации пожилых: социально-экономической, психологической и медицинской. В основе всех механизмов, по мнению авторов, лежат негативные представления о пожилом человеке [7, с. 157]. Проведенный анализ позволил нам в свою очередь выделить такие механизмы эйджизма в отношении пожилых людей, как социально-экономический, к которому мы отнесли также медицинскую стигматизацию, социально-психологический и социально-культурный.
Социально-экономический механизм стигматизации пожилых людей
Социально-экономический механизм стигматизации пожилых людей запускается под влиянием таких объективных факторов, сопровождающих пожилой возраст, как разрушение старых социальных связей (потеря друзей, коллег, знакомых; особенно актуальной данная причина становится в период выхода на пенсию); синдром пустого гнезда, когда повзрослевшие дети покидают родительский дом и занимаются собственной жизнью. Завершая свой профессиональный путь или снижая темпы карьерного роста, пожилые люди временно снижают и свою покупательную способность, перестраивают свой быт и организацию экономической жизни. Разъезжаясь с повзрослевшими детьми, семья пожилых людей также переживает социально-экономическую трансформацию. После завершения перестройки и адаптации к новым условиям, оценки своих сбережений и накоплений пожилые люди в развитых странах с индивидуалистским типом культуры возвращаются в социально-экономическую жизнь в новом статусе. Они уделяют больше внимания себе, своим хобби, благоустройству дома, здоровью, путешествиям. Существенной проблемой в данном случае может стать только наличие больших долгов и отсутствие накоплений, тогда запускается механизм социальной эксклюзии — пожилой человек, потеряв основной источник дохода, теряет возможность поддерживать привычный образ жизни. Однако в целом в таком обществе пожилой возраст рассматривается как возможность «пожить для себя», качество этой жизни зависит во многом от активности и прагматичности личности в более молодом возрасте.
В коллективистских культурах трансформация социально-экономического статуса происходит не так резко, так как пожилой человек окружен близкими, задействован в поддержании хозяйства, обучении и воспитании подрастающего поколения — внуков и правнуков. Он не исключается из экономической жизни, так как семья рассматривается как единый потребитель. Вместе с тем в таких обществах пожилой возраст больше воспринимается как «жизнь для других», забота и служение молодому поколению и обычно сопровождается установками, что «мы свое пожили», «нам ничего не надо уже», «вы молодые, а нам жить осталось два понедельника».
Общество, наблюдая изменившийся социально-экономический статус человека в первом случае и его установки во втором случае, запускает механизм социальной стигматизации, который выражается в распределении социально-экономических ресурсов пожилым по остаточному принципу. Рассмотрим действие данного механизма в трех обширных сферах: система здравоохранения и социального обеспечения, рынок труда и рынок товаров и услуг. Если говорить о системе здравоохранения, то, например, по данным аналитического исследования, проведенного в 2020 году, в 85% из 149 рассмотренных случаев доступ людей к определенным медицинским процедурам и методам лечения определялся именно возрастом [18]. В исследовании 2014 года было выявлено, что эйджизм в процессе медицинского и социального обслуживания пожилых людей обусловлен низкой оплатой труда и низким престижем профессий, связанных с помощью пожилым людям. Также респондентами была подчеркнута деструктивная роль государственной политики, способствующей формированию представлений о пожилых людях как о категории, вложение средств в которую является экономически нецелесообразным [5, с. 10]. 75,2% респондентов встречались с установкой, что пожилые люди являются экономически нецелесообразной категорией. В исследовании 2017 года был подтвержден геронтологический эйджизм в учреждениях здравоохранения [13].
В исследовании 2023 года мы наблюдаем трансформацию общественных установок о пожилых людях в сторону большей эмпатичности и одновременно большей медикализации, когда сам процесс старения рассматривается врачами как болезнь [3]. Если в 2010-х в обществе преобладала установка, что пожилых лечить нецелесообразно, то сейчас с развитием медицины и социального общества превалирует идея, что пожилых людей нужно лечить от всего и от них самих в первую очередь. Подобная установка, с одной стороны, значительно лучше, чем восприятие пожилых как экономически невыгодной категории [5], но также относится к механизму социальной стигматизации. Как отмечает К.А. Галкин, именно медикализацию возраста пожилые люди воспринимали как наиболее болезненное и опасное для себя явление [3]. В контексте медицинского контроля вся жизнь пожилого человека оказывается подчинена биохимическим процессам, происходящим в теле, и их отслеживанию. Накладываемые в рамках медикализации многочисленные ограничения, связанные с образом жизни, видами активности, питанием и пр., лишают человека возможности жить полной жизнью и приравнивают пожилой возраст к возрасту дожития. Одна из информантов, женщина, 81 год, отметила, что «старость — это не болезнь и способ о тебе забыть, завалить горами рецептов, старость — это состояние души, такое же, как и молодость, и тут к ней особый подход нужен, о котором врачи не догадываются как раз» [3, с. 22.].
К социально-экономическому механизму стигматизации относится и ситуация, сложившаяся на рынке труда. Выше мы уже отмечали, что пожилые люди конкурируют с молодыми. Работодатели, будучи заинтересованными в наиболее выгодных для себя условиях, ставят такие требования, которые дискриминируют и пожилых, и молодых. Подобная ситуация наблюдается не во всех профессиях, но в отношении офисной работы, сферы торговли, банковской сферы пожилые люди, в том числе люди предпенсионного возраста, оказываются в очень уязвимом положении. К.А. Галкин отметил, что увеличение пенсионного возраста не сопровождается системной интеграцией пожилых людей в рынок труда [4]. Ещё больше усугубила данную ситуацию пандемия, когда пожилые люди оказались в зоне повышенного риска и вынуждены были значительно дольше находиться на самоизоляции. Отметим, что исследование 2022 года, проведенное в период пандемии, показало, что именно социальная стигматизация стала причиной сокрытия пожилыми людьми информации о поездке в Китай, в эпицентр пандемии, и возможном заражении и причиной социального избегания [20].
Показательным является исследование 2020 года, в результате которого были выявлены основные причины, стимулирующие пожилых людей продолжать трудовую деятельность: недостаточный размер пенсии (74%), стремление материально помочь детям и внукам (56%), желание быть с людьми, в коллективе (32%), а также интерес к работе (19%) или привычка работать (16%) [16]. Таким образом, мы видим, что именно финансовые причины заставляют пожилых людей работать, в то время как потребности реализоваться в профессии, продолжать заниматься любимым делом, передавать свой опыт молодым специалистам не превышают 15–20% [16]. Вместе с тем, мы не можем говорить о том, что это связано с процессом старения или проживаемым экзистенциальным кризисом, так как не было проведено лонгитюдных исследований, посвященных отношению человека к профессии в молодом, зрелом и пожилом возрастах.
Если говорить о социально-экономическом эйджизме на рынке товаров и услуг, то Ю.В. Асташова в своем исследовании выявила основные причины отсутствия в России маркетинга, ориентированного на пожилую аудиторию. Данный факт связан с наличием негативных стереотипов о пожилых в отношении их материального положения, самостоятельности, активности, общительности, а также интереса к современным технологиям [1]. В результате многие поставщики товаров и услуг стереотипно воспринимают пожилых людей как неплатежеспособную аудиторию, не способную принимать самостоятельные решения, что существенно расходится с реальной ситуацией на рынке. Так, например, пожилые люди, в том числе люди пенсионного возраста, активно проявляют себя на рынке недвижимости, покупая жилье для детей и внуков или инвестируя в жилье свой капитал. На вторичном рынке недвижимости в Москве доля сделок с участием пенсионеров составляет 20% [10]. Также пенсионеры активно покупают автомобили, технику. Люди старше 50 лет являются наиболее активной предпринимательской категорией [6].
Таким образом, социально-экономический механизм социальной стигматизации, возникая на общем, поддерживаемом в том числе самими пожилыми людьми представлении об истощаемости с возрастом ресурсов и потребностей, становится не только проблемой для людей пожилого возраста, но и потенциальной точкой роста для экономики и общественных институтов. Иными словами, мы видим, что люди старше 55 лет хотят и могут работать, участвовать в товарно-денежном обороте и проявлять социальную активность.
Социально-психологический механизм стигматизации пожилых людей
Социально-психологический механизм стигматизации пожилых людей реализуется на когнитивном, эмоциональном и ценностно-мотивационном уровнях. На когнитивном уровне он выражается в наличии стереотипов, когнитивных схем и когнитивных искажений в отношении пожилых людей. Так, например, пожилой возраст может рассматриваться как возраст дожития. Однако пожилым человека могут начать называть с 50–55 лет, а количество людей, доживающих до 100 и более лет, растет с каждым годом. Получается, что «возраст дожития» составляет половину человеческой жизни.
У подростков и молодых людей часто можно наблюдать установку в отношении пожилых людей: «они ничего не понимают», в данном случае важно учитывать, что дело не в понимании, а в проблеме конфликта поколений, в разных ценностях. Так, например, подросток может считать, что его бабушка и дедушка, несмотря на наличие ученых степеней и профессионального статуса, ничего не понимают, так как не смотрят стримы и не ведут социальные сети. Однако в данном случае также работает когнитивное искажение: свои интересы и увлечения подросток считает более важными и сложными, чем интересы другого, включается эффект знакомства с объектом. У молодого поколения также может быть установка, что пожилые люди будут их осуждать, учить жизни, воспитывать, что вызывает опережающую агрессию, раздражение, желание обесценить.
На эмоциональном уровне механизм социально-психологической стигматизации может запускать:
- танатофобия, то есть страх смерти, который бессознательно человек может переживать, находясь с очень пожилым или больным человеком. Так как данный страх большую часть времени находится в бессознательном, на уровне сознания он может выражаться в неприязни к старым или больным людям, людям с инвалидностью. Начинает работать и магическое мышление, когда человек, испытывая тревогу, также ощущает иррациональный страх заразиться незаразной болезнью или ослабеть, потерять свою силу и молодость, витальную энергию;
- активизация детских воспоминаний или, обращаясь к терминам транзактного анализа, попадание в состояние ребенка, когда пожилой человек воспринимается как строгий и требовательный родитель, перед которым нужно отчитываться и оправдываться. Тогда простые вопросы такого «мнимого родителя» могут вызывать агрессию как защитную реакцию или избегание общения;
- активизация в памяти негативного опыта общения с пожилыми людьми. М. Маршалл и М. Диксон отмечают, что «если мы не имеем позитивного опыта общения со старыми людьми в повседневной жизни, увеличивается риск видеть их всех в одинаковом свете… — как инвалидов, беспомощных, имеющих много проблем» [21, p. 28]. В данном случае негативный опыт отпечатался в памяти и оказывает на бессознательном уровне влияние на дальнейшее общение с людьми старшего возраста.
На ценностно-мотивационном уровне мы говорим, прежде всего, о ценностях и мотивах, которые лежат в основе выстраивания взаимодействия с пожилым человеком. В обществе, лишенном эйджизма, к пожилым людям может быть только немного больше уважения и внимательности, и то при условии, что уважение, как и другие гуманистические идеалы, распространяются на всех людей независимо от пола, возраста, национальности и пр. факторов. При механизме социально-психологической стигматизации отношение к пожилым людям может определяться, например, прагматичными ценностями, тогда забота о пожилых людях рассматривается как нецелесообразная. Приверженцы такой системы ценностей, как правило, против социального обеспечения каких-либо категорий, будь то пенсионеры, дети, многодетные семьи, беженцы или люди с инвалидностью.
Во втором случае в основе отношения к пожилым людям будут лежать такие традиционные ценности, как милосердие, сострадание, забота и пр. Безусловно, в отношении совсем старых людей или людей с тяжелыми заболеваниями, которые не могут самостоятельно о себе позаботиться, данный подход оправдан. Однако в отношении всех пожилых людей он нежелателен, так как приводит к уже рассмотренной ранее медикализации, когда человек, перешагнув определенный возраст, начинает восприниматься обществом как слабый, несамостоятельный, нуждающийся в заботе и социальном контроле. Подобный подход также поддерживает социальную эксклюзию, так как пожилые люди начинают воспринимаются как единая масса, единая социальная группа, которую общество должно оберегать и контролировать. Для предупреждения социальной стигматизации важно помнить, что личность остается личностью и в детском, и в старческом возрасте, а если говорить о пожилых людях, то они составляют до половины и более всех представителей крупного бизнеса, политической сферы, системы государственного управления, науки и высшего образования.
Социально-культурный механизм стигматизации пожилых людей
Социально-культурный механизм стигматизации пожилых людей связан с репрезентацией образа пожилого человека в культуре, искусстве, медиа и средствах массовой информации, а также с уже рассмотренным выше культом молодости. Так, И.Г. Рябцева считает, что отождествление таких понятий, как молодость и счастье, заставляет человека мечтать о вечной молодости [17, с. 122.]. Отметим, что вечная молодость, жизнь, лишенная тягостей старения, является архетипом, распространенным во многих культурах и мифах: яблоки Идунн, яблоки Гесперид, молодильные яблоки. В литературе это роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея», рассказ Хорхе Луис Борхеса «Город бессмертных», повесть Оноре де Бальзака «Эликсир долголетия» и др.
Даже детские мультфильмы полны коннотаций, где молодость — это красота, счастье и добро, а старость — уродство и зло. Например, в мультфильме «Рапунцель» злая женщина похитила ребенка, чтобы с помощью ее волшебных волос оставаться вечно молодой. В мультфильме «Белоснежка» злая мачеха, отправляясь к Белоснежке с отравленным яблоком, превращается в злую и уродливую старуху. Образ получился весьма гротескным, преувеличенным. В мультфильме «Маугли» тигр Шер-Хан обращается к волчьей стае со словами «как это такие смелые охотники позволяют командовать собой издыхающему волку», а далее члены стаи говорят о своем вожаке: «старый волк — мертвый волк», «зачем нам старик?». Таким образом, мы видим, что культ молодости формируется в индивидуальном сознании уже в детском возрасте, но данный культ в большинстве случаев раскрывается на контрасте, что приводит к социальной стигматизации пожилых людей.
Рассмотрим немного подробнее репрезентацию образа пожилого человека в средствах массовой информации и влияние данного образа на процесс социальной стигматизации. Так, например, регулярно появляющаяся в СМИ информация о том, как пенсионеры стали жертвами мошенников, с одной стороны, призывает быть более бдительными, а с другой — также формирует определенное представление о пожилых людях как о несамостоятельных, доверчивых, лишенных критического мышления, нуждающихся в постоянном контроле. Однако, по данным Центрального банка, среднестатистическая жертва мошенников — мужчина в возрасте от 25 до 44 лет [15]. Д.А. Нелюбина в своем исследовании выявила, что СМИ наделяют пожилого человека следующими характеристиками: уязвимость, беспомощность, зависимость от окружающих и болезненность [14, с. 218]. В СМИ в большинстве материалов «старость» отождествляется с понятием «проблема». Пожилой человек описывается как нуждающийся в помощи и поддержке, больной и слабый. Новости о пожилых людях традиционно сопровождают фотографиями, иллюстрирующими глубокую старость или тяжелые болезни. В результате в социальной реальности конструируется образ пожилого человека как большого ребенка, не способного принимать самостоятельные решения, что кардинальным образом отличается от пожилого человека как носителя мудрости в традиционной культуре.
Выводы и заключение
Рассмотрение механизмов формирования социальной стигматизации в отношении пожилых людей позволило получить следующие выводы.
1. Преобразование социально-экономического и историко-культурного контекстов привели к актуализации проблемы социальной стигматизации пожилых людей. Катализаторами данного процесса стали кризис традиционных институтов и традиционной культуры, в том числе многопоколенной семьи; развитие информационного общества и цифровых технологий, которые привели к информационному профициту; ориентация на индивидуалистские ценности и ценности потребительского общества с его прагматичным и функциональным подходом к межличностным отношениям; поддержание культа молодости и культа социального успеха; социально-экономические факторы и, как следствие, дисбаланс, вызванный увеличением доли пожилых людей в обществе.
2. Социальная стигматизация пожилых людей имеет трехчастную структуру и включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспекты. Когнитивный компонент представляет собой совокупность предрассудков, стереотипов, когнитивных искажений в отношении пожилых людей. Эмоциональный компонент предполагает предвзятое отношение к пожилым, в том числе страх, жалость, сочувствие, отвращение, брезгливость, раздражительность. Поведенческий компонент эйджизма связан с совокупностью дискриминирующих социальных практик в отношении пожилых людей, которые могут быть официальными и неофициальными. Все три компонента поддерживают и усиливают друг друга, образуя единую систему социальной стигматизации. Социальная стигматизация приводит к социальной эксклюзии пожилых людей — исключению из активной социальной жизни.
3. Системный анализ существующих форм репрезентации геронтологического эйджизма позволил выделить три основных механизма формирования социальной стигматизации пожилых людей: социально-экономический, социально-психологический и социально-культурный. Социально-экономический механизм проявляется преимущественно в отношении рынка труда, рынка товаров и услуг, а также в сфере здравоохранения и социальной помощи. Социально-психологический механизм стигматизации пожилых людей реализуется на когнитивном, эмоциональном и ценностно-мотивационном уровнях и выражается преимущественно в форме негативных стереотипов. Социально-культурный механизм стигматизации пожилых людей связан с репрезентацией образа пожилого человека в культуре, искусстве, медиа и средствах массовой информации, с доминирующей в обществе системой ценностей и смыслов.
4. Механизмы социальной стигматизации в современном обществе направлены на социальную эксклюзию пожилого человека, конструирование образа пожилого человека как несамостоятельного, зависимого, слабого, беспомощного создания, не способного принимать самостоятельные решения, участвовать в общественной и экономической жизни, нуждающегося в постоянной заботе и опеке, сострадании со стороны молодого поколения. Однако подобный образ не соотносится с реальной ситуацией, когда пожилые люди также являются трудоспособным населением, активно совершают сделки на рынке товаров и услуг, непосредственно участвуют в конструировании общества, в том числе активно занимаясь бизнесом, политикой, научными исследованиями, искусством. Конструируемый сегодня образ пожилого человека отличается от восприятия пожилого человека как носителя мудрости в традиционной культуре. Однако начавшаяся трансформация российского общества во многом нацелена на преодоление подобной стигматизации на государственном уровне. Схожие процессы наблюдаются и в других странах, что подтверждается увеличением доли культурно-развлекательных, информационных, образовательных и иных продуктов для людей пожилого возраста.
Библиография
- Асташова, Ю.В. Эйджизм как фактор сдерживания геронтомаркетинга на российском потребительском рынке // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2018. Т. 12, № 1. С. 142-151.
- Барсуков В.Н. Старение населения в контексте концепции демографического перехода // Вопросы территориального развития. 2016. №. 1 (31). 11 с.
- Галкин К.А. Особенности медикализирующего поведения в отношении пожилых людей при взаимодействиях с врачами и социальными работниками // Гуманитарий Юга России. 2023. Т. 12. №. 2. С. 14-27.
- Галкин К.А. Трудоустройство пожилых людей и политика активного старения в Европе и России // Социологические исследования. 2021. № 11. С. 156-160.
- Горелик С. Г., Колпина Л. В. Проблемы дискриминации населения старших возрастных групп в сферах медицинского обслуживания и социальной защиты: эмпирический анализ //Социальные аспекты здоровья населения. 2014. Т. 38. №. 4. 14 с.
- Жизнь заставила: как люди начинают бизнес после 50 лет // РБК. Режим доступа: https://www.rbc.ru/photoreport/13/02/2018/5a7d991e9a794774e07b164c (дата обращения: 01.11.2023).
- Захарова И.А., Коробко А.И., Сотников В.А. Социальная стигматизация и установки в отношении возрастных изменений // Российский журнал гериатрической медицины. 2022. № 3(11). С. 156–160.
- Килясханов М.Х. Пожилые люди в традиционном и инновационном обществе: отношение, социальный статус и возможности // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2018. №4 (229). С. 159-164.
- Коломиец П.Н. Дискриминация пожилых людей на рынке труда // Вестник евразийской науки. 2017. №5 (42). 7 с.
- Колочинский А. Почему застройщикам жилья не стоит пренебрегать покупателями в возрасте // РБК. Режим доступа: https://realty.rbc.ru/news/5e6b74759a7947a34811ca0e (дата обращения: 01.11.2023)
- Максимова А.А. Проблема одиночества в пожилом возрасте / А.А. Максимова, К.Д. Маховицкая, О.В. Ничиженова, Е.В. Соболева // Вестник СМУС74. 2016. №1 (12). С. 38-40.
- Мухина И.К. Национально-культурные представления в структуре оппозитивных концептов «Юность» — «Старость» // Диалог культур. Теория и практика преподавания языков и литературы: VI Международная научно-практическая конференция. Труды и материалы, Симферополь, 09–11 октября 2018 года / Под редакцией В.В. Орехова, Е.Я. Титаренко. Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2018. С. 296-299.
- Некоторые аспекты геронтологического эйджизма в учреждениях здравоохранения / А.И. Шпаков, Л.Г. Климацкая, О.И. Зайцева [и др.] // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5. С. 164.
- Нелюбина Д.А. Конструирование образа пожилого человека в СМИ // Практики воспроизводства ценностей: гуманитарный, социальный и экономический аспекты. Екатеринбург, 2020. С. 217-219.
- Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций // Банк России. Режим доступа: https://cbr.ru/analytics/ib/operations_survey_2022/ (дата обращения: 01.11.2023)
- Работа на пенсии: за и против // ВЦИОМ. Режим доступа: https://wciom.ru/analyticalreviews/analiticheskii-obzor/rabota-na-pensii-za-i-protiv (дата обращения: 01.11.2023)
- Рябцева Э.Г. Отражение культа молодости в текстах рекламного дискурса // Междисциплинарные аспекты лингвистических исследований: Сборник научных трудов / Под редакцией В.И. Тхорика, В.В. Катерминой, С.Х. Липириди, А.М. Прима, А.В. Самойловой. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021. С. 120-130.
- Эйджизм — глобальная проблема // Всемирная организация здравоохранения. Режим доступа: https://www.who.int/ru/news/item/18-03-2021-ageism-is-a-global-challenge-un (дата обращения: 01.11.2023)
- Butler R.N. Age-Ism: Another Form of Bigotry. The Gerontologist. 1969. № 9 (4–1). С. 243–246.
- Li J. et al. The impact of stigmatization on social avoidance and fear of disclosure among older people: Implications for social policy preparedness in a public health crisis. The COVID-19 Pandemic and Older Adults. Routledge, 2022. P. 43-59.
- Marshall, M. Social work with Older People: 3 rd ed. / M. Marshall, M. Dixon. Basingstoke, England: Macmillan, 1996. 150 р.
Источник: Соколова И.В. Механизмы формирования социальной стигматизации в отношении пожилых людей // Человеческий капитал. 2024. №2(182). С. 126–135. DOI: 10.25629/HC.2024.02.12
Фото: сайт Московской службы психологической помощи населению








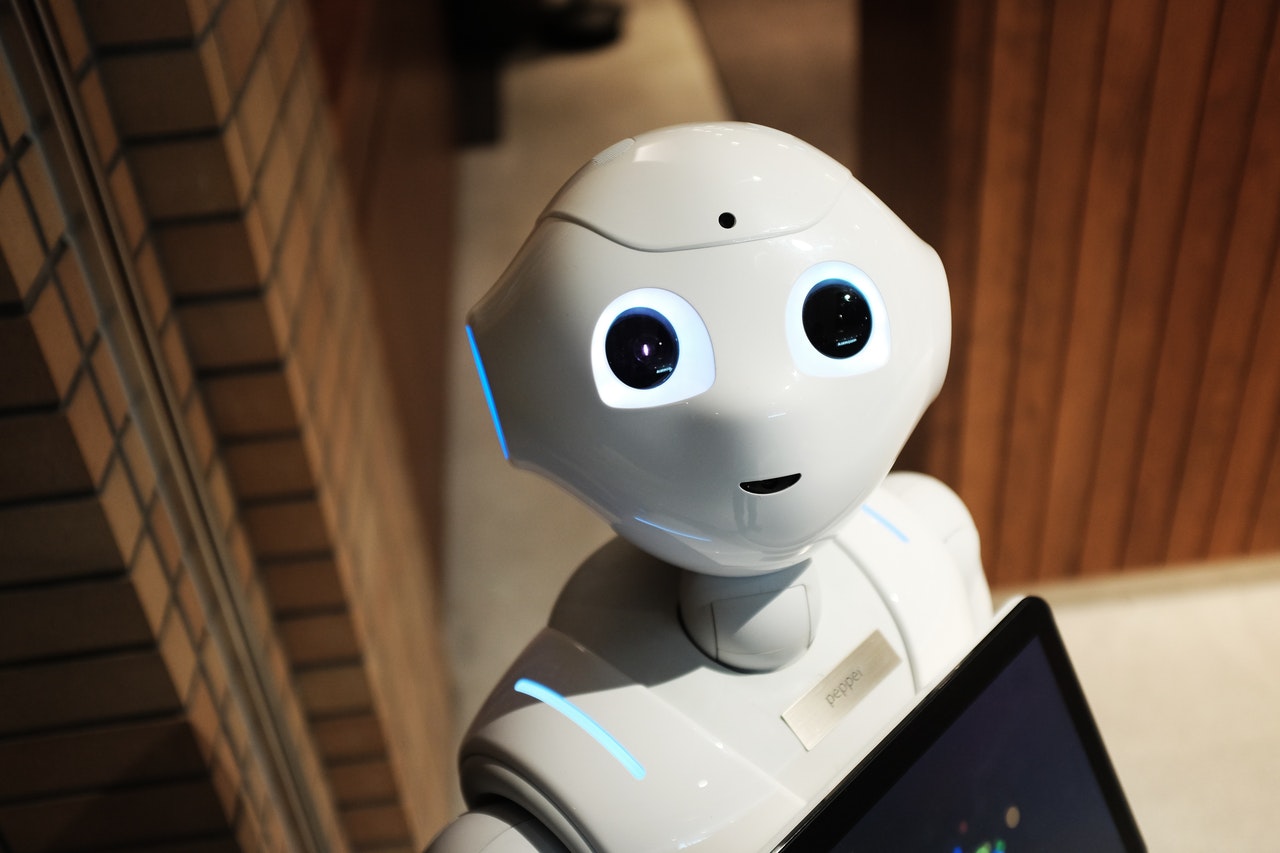

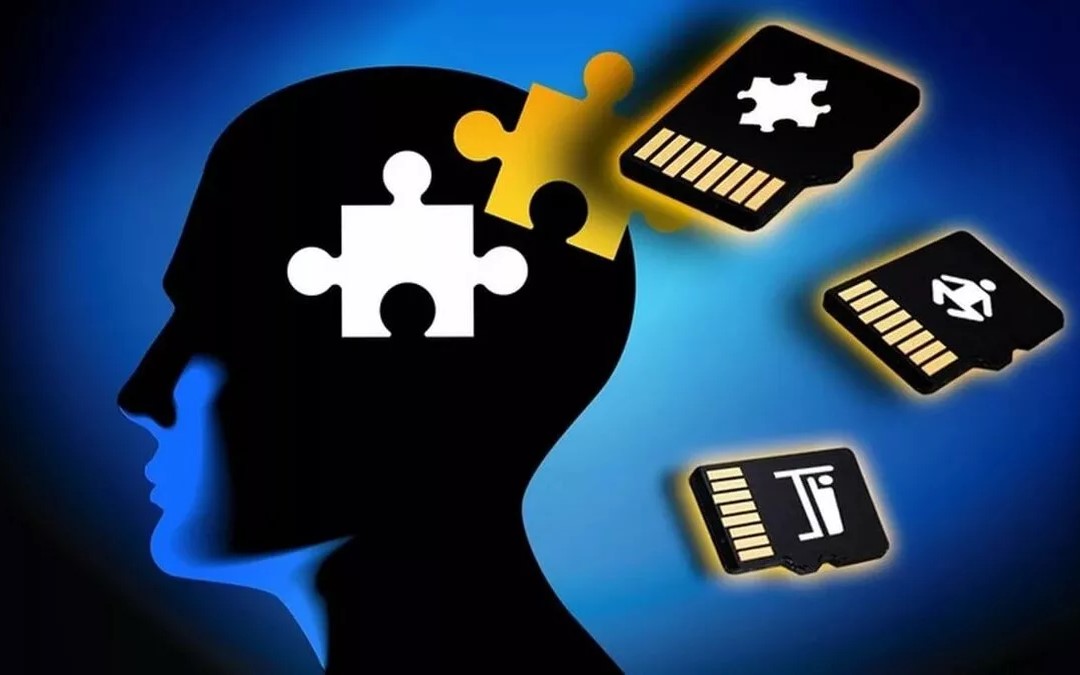














































В неписанном моральном кодексе уважительное отношение к старости прописано отдельной строкой, что свидетельствует и о традиционности этой проблемы, и о её статусе традиционной ценности.
, чтобы комментировать
Спасибо, Ирина Владимировна за актуальную проблему, которую не побоялись обсудить. Эйджизм - это отвратительно. И свидетельствует не только о нарциссическом контексте мышления некоторых представителей нашего социума, но и об их недальновидности в решении насущных государственно-социальных проблем. Например: нам не хватает "молодых" кадров - так в чём проблема? Снимите возрастные ограничения, например, при принятии на службу в полицию и другие силовые структуры. Почему в западных странах есть шерифы, которым по 70-80 лет, а у нас таких дедушек и бабушек представляют себе только в инвалидных колясках или в крематории? Мне самой - 54 года, я поступила в МГППУ на бюджет в 2018 году, когда мне было 48 лет, закончила специалитет по клинической психологии с отличием, в 2024 году. И представьте, ГОД (!!!) не могла устроиться на работу. Если бы было распределение, как в СССР, то с красным дипломом меня взяли бы сразу по специальности. Но сейчас - чего я только не наслушалась, в основном намёки на то, что на работе хотели бы видеть людей помоложе. Хотя они компетенциями и опытом намного уступают мне. И тут же жалуются на то, что молодые девушки приходят на работу и в течение 1-2-х лет уходят в декретные отпуска, надолго. Так казалось бы: вот пришёл человек, специалитет с отличием, хочет работать, есть мощная мотивация помогать пациентам, есть аккредитация "медицинский психолог", в возрасте, который уже не рисковый, и бюджету города Москвы не придётся выплачивать декретные, не имея по факту закрытой ставки. То есть, работать-то всё равно некому, если берут молодых. А потом жалуются, что работать некому. Вот такой маразм. И при этом опять же из каждого утюга кричат о том, что это происходит из-за старения населения, а не из-за того, что у нас везде на местах сидят начальники-эйджисты, которым сами уже лет по 40-50, а некоторые гораздо старше меня, и которым ума не хватает, чтобы понять, что это они берут на работу тех, кто в итоге не будет работать. А тем, кто будет, просто отказывают, ссылаясь на отсутствие стажа например. А некоторые набираются наглости в открытую говорить о возрасте. Я в шоке от нашего общества. Лет 20 назад такого отношения к людям среднего возраста ещё не было. Это факт. Это действительно очень серьёзная проблема.
, чтобы комментировать