
«Психологическая газета» продолжает публиковать материалы-пособие проф. Марка Евгеньевича Бурно, предназначенное для врачей и клинических (медицинских) психологов для работы в Терапии творческим самовыражением М. Бурно (ТТСБ) с тревожно-депрессивными пациентами. В первой статье цикла было представлено предисловие к пособию и первое занятие, а также список литературы. Второе занятие посвящено краткому повторению существа ТТСБ и классическому учению о характерах. Третье занятие было посвящено терапии творческим общением с природой людей с синтонным (сангвиническим) характером. Четвертое занятие — терапии людей с замкнуто-углублённым (аутистическим, шизоидным) характером. Пятое занятие описывает терапию творческим общением с природой людей с тревожно-сомневающимся (психастеническим) и застенчиво-раздражительным (астеническим) характерами.
Картины для занятий подобраны врачом-психотерапевтом Аллой Алексеевной Бурно.
Шестое занятие. О терапии творческим общением с природой людей с напряжённо-авторитарным (эпилептоидным) и мозаичным эпилептическим характерами
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889)
Из сказки «Коняга» (книга «Сказки»)
Пыльный мужицкий просёлок узкой лентой от деревни до деревни бежит; юркнет в посёлок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всём протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполнили: даже там, где земля с небом слилась, и там всё поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнажённые — они железным кольцом охватили деревню, и нет у неё никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вот он, человек, вдали идёт; может ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он всё на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадает, точно пространство само собой её засосёт.
Из века в век цепенеет грозная неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет её на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге.
1882–1886
Николай Семёнович Лесков (1831–1895)
Из рассказа «Зверь»
Перед домом дяди за широким круглым цветником, окружённым расписною решёткою, были широкие ворота, против ворот посреди картины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка».
Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного «умного», который представлялся наиболее смышленым и благонадёжным по характеру. Такого отделяли от прочих собратий, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени или лёжа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.
Жить такою привольною жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они вели себя смирно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека.
Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить.
1883
Лев Николаевич Толстой (1828–1910)
Из автобиографической трилогии. Части «Отрочество» и «Юность».
Из «Отрочества». Глава II. Гроза.
В бричке в Москву (с братом Володей и ещё «недавно взятый с оброка лакей Василий»). Гроза стихает. Я испытываю невыразимо отрадное чувство надежды в жизни, быстро заменяющее во мне тяжёлое чувство страха. Душа моя улыбается так же, как и освежённая, повеселевшая природа. Василий откидывает воротник шинели, снимает фуражку и отряхивает её; Володя откидывает фартук; я высовываюсь из брички и жадно впиваю в себя освежённый, душистый воздух. … С одной стороны дороги — необозримое озимое поле, кое-где перерезанное неглубокими овражками, блестит мокрой землёю и зеленью и расстилается тенистым ковром до самого горизонта; с другой стороны — осиновая роща , поросшая ореховым и черёмушным подседом, как бы в избытке счастия стоит, не шелохнётся и медленно роняет с своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие прошлогодние листья. …Так обаятелен этот чудный запах леса, после весенней грозы, запах берёзы, фиалки, прелого листа, сморчков, черёмухи, что я не могу усидеть в бричке, соскакиваю с подножки, бегу к кустам и, несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветки распустившейся черёмухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом.
1952–1954
Из «Юности». Глава II. Весна.
Заберёшься, бывало, в яблочный сад, в самую середину высокой, заросшей, густой малины. Над головой — яркое горячее небо, кругом — бледнозелёная колючая зелень кустов малины, перемешанных с сорной заростью. Тёмнозелёная крапива с тонкой цветущей макушкой стройно тянется вверх; разлапистый репейник с неестественно лиловыми колючими цветками грубо растёт выше малины и выше головы, и кое-где вместе с крапивою достаёт даже до развесистых бледнозелёных ветвей старых яблонь, на которых наверху, в укор жаркому солнцу, зреют глянцовитые, как косточки, круглые, ещё сырые яблоки. … Думаешь себе: «Нет! … ни кому на свете не найти меня тут…», обеими руками направо и налево снимаешь с белых конических стебельков сочные ягоды и с наслаждением глотаешь одну за другою.
1955–1957
Николай Алексеевич Некрасов (1821–1878)
На родине
Роскошны вы, хлеба заповедные
Родимых нив, —
Цветут, растут колосья наливные,
А я чуть жив!
Ах, странно так я создан небесами,
Таков мой рок,
Что хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдёт мне впрок!
1855
***
В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России —
Там вековая тишина.
Лишь ветер не даёт покою
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землёю,
Колосья бесконечных нив...
1857–1858
Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881)
Из книги «Записки из Мёртвого дома»
В остроге во всё моё время перебывало однако же случайно несколько животных. … Гуси у нас завелись как-то тоже случайно. Кто их развёл, и кому они собственно принадлежали, не знаю, но некоторое время они очень тешили арестантов и даже стали известны в городе. Они и вывелись в остроге, и содержались на кухне. Когда выводок подрос, то все они, целым кагалом повадились ходить вместе с арестантами на работу. Только, бывало, загремит барабан и двинется каторга к выходу, наши гуси с криком бегут за нами, распустив свои крылья, один за другим выскакивают через высокий порог из калитки и непременно отправляются на правый фланг, где и выстраиваются, ожидая окончания разводки. Примыкали они всегда к самой большой партии и на работах паслись где-нибудь неподалёку. Только что двигалась партия с работы обратно в острог, подымались и они. В крепости разнеслись слухи, что гуси ходят за арестантами на работу. «Ишь, арестанты со своими гусями идут! — говорят, бывало, встречающиеся. — Да как это вы их обучили!» — «Вот вам на гусей!» — прибавлял другой и подавал подаяние. Но несмотря на всю их преданность, к какому-то разговенью их всех перерезали.
1861–1862
Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859)
Из автобиографической книги «Детские годы Багрова-внука» (1858). Из главки «Первая весна в деревне».
Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черёмухи зацветают, когда пучок на берёзах лопается, когда чёрные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми сон, лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда полезут везде из земли свёрнутые в трубочки травы и завёрнутые в них головки цветов, когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за сердце, которых я заслушивался до слёз; когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, крапивные и жёлтые бабочки замелькают, шмели и пчёлы зажужжат; когда в воде движенье, на земле шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал…
Художники
Иван Иванович Шишкин (1832–1898)
Василий Иванович Суриков (1848–1916)

В. Суриков. Енисей у Красноярска. 1909.
Пример заключения ведущего занятие
Существо напряжённо-авторитарного (эпилептоидного) характера — сердито-напряжённая авторитарная (властная) прямолинейность (в отличие от сомнений, раздражительности тревожно-напряжённых психастеников, астеников, тревожных циклоидов), — прямолинейность, спаянная с мощными влечениями, взрывчатостью, острой чувственностью. Прямолинейностью мысли, чувства объясняются неуклонное стремление к справедливости, более или менее выраженные обстоятельность мысли и вязковатость чувствования, «припадание» (термин В.Е. Смирнова) к деталям, порою к мелочам. Это выразительно отличает эпилептоидов (эпилептоидных акцентуантов) от живых мыслью и чувством людей, живостью своей способных схватывать, выделять главное (живо обобщать и чувствовать суть происходящего вокруг). Вязковатость (солидность) сказывается и в движениях, и в способности решительно, не сомневаясь, действовать или мощными волевыми усилиями сдерживать свою взрывчатость, когда разразившийся гнев может тебе же повредить. Мощные влечения сказываются и стремлением к отборным, утончённым кушаньям, и стремлением мощно сексуально овладевать женщиной, нередким стремлением женщины такого склада, чтобы ею по-хозяйски, воинственно овладели, и склонностью к азартным играм. Безнравственность безнравственного эпилептоида обычно обнаруживается сосуществованием в нём жестокости и угодливости.
Когда сердитость-агрессивность сплавляется с душевной дефензивностью (некоторой тревожностью, сомнениями, даже известной беспомощностью), перед нами чаще нравственный эпилептоид в духе Шишкина, с нежностью любившего лес до сложных особенностей коры деревьев, которые изучал и изображал, до мягкого волшебного света подробно выписанных коряг на его картинах. Конечно же, немало и по-своему добрых, порядочных, истинно (не ложно) справедливых эпилептоидов и без выраженной дефензивности (психастеноподобности), например, разнообразных нравственных руководителей. Физиономия зла безнравственного эпилептоида понятна и без объяснений. Нравственный напряжённо-авторитарный человек напряжённо-сердито раним, когда его недооценивают, обычно предан добрым традициям, тянется к изучению истории, вообще к прошлому, местам детства, старым фотографиям. В отношениях с природой обнаруживает и свою хозяйственность, и сочувствие к несчастным животным, угнетенным людям (Салтыков-Щедрин, Лесков, Шишкин), при том что одновременно склонен к охоте, конному спорту (вообще к спорту как справедливой борьбе), к дрессировке собак и т.п. Эпилептоиды нередко мучаются сверхценными идеями (особенно ревностью), и важно, понимая это, давать им как можно меньше поводов, которые могли бы эти идеи возбуждать.
Понятно, что эпилептоиду особенно близко, созвучно в природе что-то могучее (дубы Шишкина). Всё в природе в творчестве эпилептоида обстоятельно напряжено. У писателей природа чаще «подспорье» для изображения мощных переживаний, силы или низости натур, их страстей (Салтыков-Щедрин, Лесков). Подобное, — например, и у художника Сурикова.
По-видимому, напряжённая прямолинейность без дефензивности (психастеноподобности) не способствует проявлению в творчестве духовной неповторимости, предрасполагает к натуралистичности. Эпилептоидный характер уводит здесь и художника, и писателя от одухотворённости к изображению быта, к крепкому народному языку, изображению жестокостей жизни, исторических событий, к другому важному для нас (Мельников-Печерский, Лесков). Всё это гораздо слабее изображают одухотворённые. Не так мягко дышит своей духовной неповторимостью у эпилептоидов и природа. Пейзаж изображается нередко хмуро застывшим, тяжелокровным. Цветы, яблоки красочно приземлёнными, закруглёнными (например, художественный стиль «бидермайер»).
Агрессивная напряжённость эпилептоидов нередко смягчается в общении с домашними животными. Так, хмуро-раздражительная эпилептоидная женщина сообщает гостям, что «служит» своему коту, называет его своим хозяином и всё ему прощает. Эта смешная и для неё самой понарошечность её успокаивает-утешает.
Психиатр-психотерапевт Ольга Борисовна Счастливова (Москва) (1999) описывает напряжённо-авторитарного (эпилептоидного) человека на «дачном участке». «Обычно в его саду нет места газонам, живописно заросшим лужайкам, цветникам. Если и есть цветы, то обычно они «мешают» разбивать грядки. Часто такой авторитарный садовод уверен, по-хозяйски, что земля «не должна простаивать», что структура её улучшится, если высадить картошку, пусть даже перед окном дома. Общение с природой смягчает дисфорическую напряжённость авторитарного человека, умиротворяет его» [19, с. 596].
Итак, мы говорили о напряжённо-авторитарных (эпилептоидных) людях, о таких творцах. Кто же есть по характеру другие напряжённо-авторитарные творцы, кроме тех писателей, художников, которых мы уже вспоминали на этом занятии как эпилептоидных? Какие характеры у Л. Толстого, у Достоевского, Некрасова, Аксакова? Это всё писатели, страдавшие эпилепсией. Люди с мозаичными эпилептическими характерами.
Существо эпилептического характера — в особенной мозаике (смешении) характерологических радикалов. Это мозаика радикалов в ядре характера, а не просто внешнее наслоение иного характерологического на стержневой характер. Особенность этой мозаики — в пронизанности, насыщенности радикалов смешением повседневной мощной раздражительности с характерным напряжённым человеколюбием или неприязнью к человеку (со сгущённой психологической обстоятельностью). Не было бы всего этого в их творческом изображении движения души — не было бы предсмертных переживаний толстовского Ивана Ильича, не было бы нескончаемых углублённых диалогов в поисках зла в прозе Достоевского.
У многих мрачных эпилептиков отмечается вязкая, серая, душевная «пасмурность умонастроения» (В.Е. Смирнов). Из этой пасмурности трудновато выбраться в светлый мир. Владимир Елизарович Смирнов (подробнее о его работе 1979 года далее) отмечает, что это «сенсорное голодание побуждает их (эпилептиков — М.Б.) припадать (прилипать) к фактам, явлениям, лицам, попавшим в сферу их переживаний» [22, с. 475]. Но есть и напряжённо-весёлые эпилептики с обстоятельной авторитарностью к близким и подчинённым. Эта гипоманиакальность перемежается с гневливыми депрессивными спадами. А Лев Толстой (скрытая эпилепсия) охватывал своим мировосприятием громадные пространства человеческой души (характеры, переживания), пространства природы, истории, философии.
Эпилепсия (с древнегреческого — «внезапно падать, как бы по велению сверху») есть хроническая болезнь с судорожными и бессудорожными пароксизмами (неожиданными приступами), особыми изменениями личности, особыми эпилептическими психозами. Тут совсем не обязательны судорожные припадки. Приступы (пароксизмы) могут быть приступами ярких воспоминаний, уносящими из реальности (у Аксакова), состояниями тоскливо-злой подозрительности-раздражительности со страхом (у Толстого), приступами злой тоски с ненавистью к себе (у Некрасова). И т.д. Эти бессудорожные формы эпилепсии называют скрытой (латентной) эпилепсией. Эпилептические психозы могут быть депрессивными, дисфорическими, бредовыми с жизненным или сказочным, религиозным и т.д. содержанием. Эпилептические особенности личности похожи на эпилептоидные, но в искажённом гротеске. Тут тоже часто напряжённая, вязковатая, обстоятельная авторитарность, но в своей сгущённости. Например, восторженная пищевая обстоятельная чувственность в прозе Аксакова. Кстати, способная возбуждать вялую чувственность в депрессивно-апатических людях. Однако главное здесь — это, повторяю, особенное смешение (мозаика) характерологических радикалов в эпилептической душе. Радикалы психастенический, аутистический и другие могут теснить, прикрывать собою радикалы агрессивно-эпилептоидные и способствовать становлению недосягаемо высокой земной нравственности, человечности. Хотя и странноватой для многих трезвых практиков. Вязковатая агрессивная характерологическая эпилептоидность, хотя бы прожилками, способна здесь незаметно проглядывать из-за других радикалов. Проглядывать соединением сердитой, напряжённой раздражительности и обстоятельной утончённо-дружелюбной, порою даже чуть угодливой или детской, беспомощной расположенности к людям. Это проглядывает сквозь выраженную нравственно-благородную, добрую психастеноподобность, например, князя Мышкина. На него был весьма похож сам Достоевский в своей молодости. Выразительные сдвиги картины личности с возрастом характерны для эпилептика: болезнь движется — природная душа (вместе с характером ) изменяется. Земное в эпилептике, однако, чувствуется почти всегда. Даже если сосуществует со способностью веровать в бесформенный Дух-Добро (благодаря аутистическому радикалу).
Переживание своей застенчивости, самообвинение дефензивного человека и другое в его психастеноподобности в сравнении, например, с таковыми у психастеника, порою слишком уж жгучее, жестокое к себе самому, напоённое злостью. Некрасов пишет такие слова в стихотворении «Я за то глубоко презираю себя…» (1845), что жутко становится. «И лениво твердя: я ничтожен, я слаб! — / Добровольно всю жизнь пресмыкался как раб; / Что, доживши кой-как до тридцатой весны, / Не скопил я себе хоть богатой казны, / Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног, / Да и умник подчас позавидовать мог! … И что злоба во мне и сильна и дика, /А хватаюсь за нож — замирает рука!» Но, по-видимому, Некрасов всё же чувствовал-понимал, особенно к концу своей жизни, что в его слабости-гневливости живут бесценные мучительные страдания за угнетённых. «Не русский — взглянет без любви / На эту бледную, в крови, / Кнутом иссеченную музу…» ( «О муза! Я у двери гроба» (1877)).
Психастеноподобность Льва Толстого так углублённо-обстоятельно уходит в душевный, духовный мир (свой и героев толстовской прозы), так объёмно-детально и сурово наблюдает за размышлениями и размышлениями о своих размышлениях, что это сердило в своё время синтонного Тургенева, следующего в творчестве по пушкинской дороге. Это и сейчас отталкивает от Толстого немало читателей. Другим это психологическое «перебарщивание» помогает понять себя. А в позапрошлом веке «молодое литературное поколение, к которому принадлежал Чехов, признало своим вождём не Тургенева, а Толстого» (Лакшин В.Я. Лев Толстой и А. Чехов. М.: Советский писатель, 1963. С. 392).
Эпилептоидные и эпилептические творцы способны, по опыту своей жизни, изображать во всю силу мощные влечения-страсти (Салтыков-Щедрин, Лесков, Достоевский, Толстой, Некрасов, Аксаков, Шишкин, Суриков).
О целительном творческом общении эпилептиков с природой. Это тоже сложная тема: эпилептики разные. У Достоевского мало природы в произведениях, возможно, по причине преобладания аутистического и напряжённо-авторитарного, психастенического радикалов, побуждающих к почти непрерывному развитию огненной тревожной мысли, развитию разговоров (часто с надрывом) между его героями. Толстой гораздо ближе к природе (впереди психастенический радикал с напряжённо-авторитарным). Уже в приведённом выше месте из «Отрочества» видим много деталей природы, к которым молодой Толстой «припадает». «Поэтому, — кстати, отмечает об эпилептиках В.Е.Смирнов, — уже первым беседам с больными придаётся психотерапевтический акцент информационно-конструктивный метод…» В этом, по-моему, слышится и особое уважение врача к приверженности пациента к фактам, деталям. В том числе, к подробностям в природе [22, с. 475].
Толстому и Достоевскому за мощь их подробностей благодарно человечество. Но это и мощь азартных игр.
В Аксакове много авторитарно-ювенильного, природно-красочного, гастрономического, в «картёжнике» Некрасове много депрессивно-психастеноподобного. И упомянутые писатели, и страдающие эпилепсией пациенты тяжелокровно материалистически, вязко-обстоятельно, чувствуют природу, как и эпилептоиды, благосклонны к ней, хотя и с нередким тут чувством хозяина природы («Рубка леса» Шишкина). Есть в них особая, порою напряжённо-утончённая, глубинная чувственная проникновенность в природу. Глубокий психиатр-психотерапевт Владимир Елизарович Смирнов (знаю его смолоду) немало помогал больным эпилепсией и знает их душу. Предполагаю, что в психотерапевтических формулах его аутогенного метода проступает опора на эту вышеупомянутую особенность чувственно-напряжённых, глубинно-проникновенных, внимательно-обстоятельных отношений эпилептиков с природой, на то, что близко, дорого в природе многим из них. Смирнов отмечает следующее. «Образцом многократного повторения формул (психотерапевтических — М.Б.) могут служить следующие: «Голова светлая и ясная, лицо овевает прохладный ветер. На непокрытую голову, за шиворот падают редкие снежинки. Если исходной являлась «поза кучера» больному предлагалось представить себя на берегу прозрачного ручья («мысли текут прозрачно и холодно, как ключевая вода в ручье»). Этой «ключевой водой, от которой стынут зубы», пациент «обтирал своё лицо, припадая к ней, и делал несколько глотков». … больным предлагалось вызвать у себя ряд конкретно-чувственных представлений, образов, преимущественно обонятельных (например, сладковатую горечь полыни в открытой степи, приторный аромат в поле цветущего мака, резкое благоухание белых ландышей в тени деревьев и т.д.» [ 22, с. 487]. В другой работе В.Е. Смирнов сообщает, что «царь Пётр любил … слушать пение певчих дроздов». «Слушая их, он надолго приходил в благодушное настроение («орнитотерапия при дисфориях / депрессиях)» [23 , с. 63]. Дисфория — смешение страха, гнева и тоски, часто встречающаяся у эпилептиков. Пётр I страдал эпилепсией [34 , с. 801–803].
В Е. Смирнов рассказывает, как его пациентка смягчала свою депрессивную напряжённость песней «Синие цветы». «Синие цветы на излёте дня /Через дымку времени смотрят на меня. / Синие цветы юности моей, / С вами даже плачется как-то веселей» [23, с. 52].
Сам я слишком мало помогал больным эпилепсией, могу опираться лишь на нечастые консультации эпилептиков в потоке. Это особая область в психиатрии и неврологии (эпилептология), требующая сосредоточенных и долговременных психотерапевтических занятий с пациентами. Моей жизни на это не хватило. Не могу даже с уверенностью выбрать-предположить из одарённых больных эпилепсией известных живописцев природы. Но могу сказать из своего психотерапевтического опыта, что приёмы, которые создал В.Е. Смирнов для лечения больных эпилепсией, неплохо помогают и напряжённо-авторитарным (эпилептоидным) пациентам.
Подробнее по теме этого занятия — см.: 6, с. 182–202; 7, с. 26–30; 11, с. 22–23; 19, с. 199–201.
Все изображения приведены в образовательных целях. Список литературы опубликован в первой статье цикла. — прим. ред.
















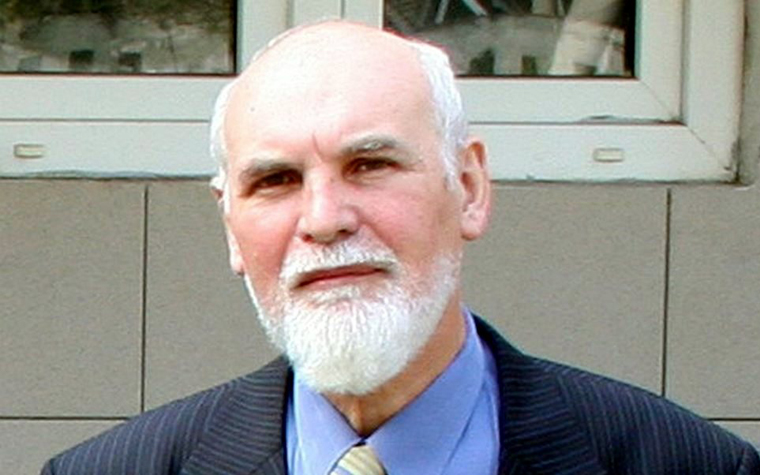









































Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый
, чтобы комментировать